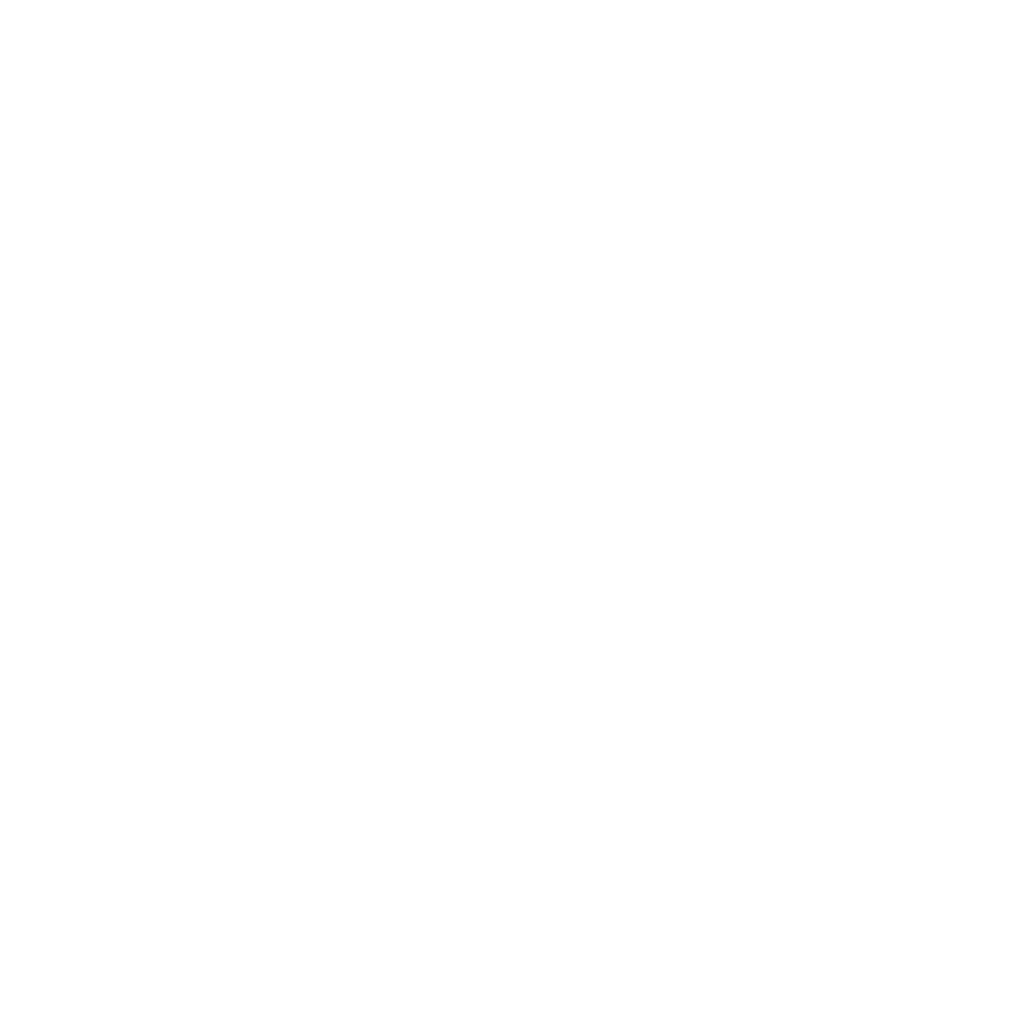
ОЧЕРЕДНОЙ МЕССИЯ И ЕГО СЫН
Вместо предисловия
Каждый человек сталкивается в своей жизни с явлениями и переживаниями, которые не может себе объяснить. Взять, к примеру, предчувствия и сны, которые сбываются, неожиданные исцеления безнадежных больных, возникновение из ниоткуда гениальных идей, моменты внутреннего озарения, когда все приобретает новое значение, и многое другое, что принято называть «мистическим опытом». Он может радикально менять людей, в том числе и тех, кто не верил в его реальность. Бывает, человек думал, что «домик», который он построил для себя из своих убеждений, прочный и вечный, а он вдруг упал и рассыпался. Об таком случае и рассказывает эта повесть.
Почему «мессия», да еще и очередной? Это слово, по правилам, нельзя произносить «всуе». Но, вопреки всем правилам, оно вошло даже в пословицы и поговорки. Та же свобода и в употреблении слова «мессия» в светской культуре, которой, как и религии с ее идеей мессианства, свойственны ожидания некой гениальной личности, способной дать миру новые представления о явлениях и закономерностях.
Главный герой моей повести – мессия именно в этот смысле. Он видит свое призвание в спасении религии от груза мертвых слов, не дающих Духу дышать. Ну, а «очередной» он потому, что таких мессий было и будет еще много. Начитанные люди увидят в сюжете параллели с евангельским преданием, но связь одного и другого не больше чем у звука и отзвука.
П о л н ы й т е к с т
“Дух дышит, где хочет,
и голос его слышишь, а не знаешь,
откуда приходит и куда уходит:
так бывает со всяким, рожденным от Духа”.
1
Я проснулся ночью от громкого голоса, и мое сердце остановилось. На сколько оно остановилось, я не знаю. Знаю только, что с этого все началось. Мое сердце остановил Голос, прозвучавший рядом. Тот Голос сказал два слова:
“Ты – мессия”.
В ту ночь я больше не спал. Я пролежал до рассвета в странном трепете. Прежде я думал, что такой трепет бывает только у девушек. Я ошибался.
Мне не давало покоя слово “мессия”. Почему именно “мессия”? Так зовут себя теперь только сумасшедшие. Я думал, что все прояснится в следующую ночь. Не мог же тот Голос сказать мне только два слова, рассуждал я.
И вот снова наступила ночь, а Голос не раздавался. Тогда я обратился к нему сам.
“Почему “мессия”? Почему не назваться по-другому?” — спросил я.
И тогда прозвучало:
“Хочешь другие слова? Ищи их”.
Это было в последний раз, когда я услышал Голос на расстоянии. Потом он раздавался во мне и из меня. Раздавался он всегда внезапно. Люди думали, что говорил я сам, но на самом деле слова, которые я произносил, моими не были. Они входили в мою гортань и обретали звучание. Мой собственный голос становился тогда гуще и одновременно — выше. Но, кроме меня, этого никто не замечал.
Россия не ждала мессии. Меньше всего о мессии думали там, где я жил, — в Москве, городе-храме божка, называемого Счастье. Завороженные его зрачками-монетками, оглушенные его смехом, бегущие наперегонки на его праздник, москвичи хотели только одного: впрыгнуть в объятия своего божка. Но божок Счастье был безрукий. И он не сидел на месте. Божок Счастье только и делал, что бегал, и вместе с ним, в затылок, бегал его праздник, а за праздником – миллионы москвичей, мечтавших на него попасть.
Поднятый над этой беготней настолько, насколько это делает возможным квартира на восьмом этаже, я вживался в происшедшие со мной перемены – сначала только это. Я теперь иначе дышал, по-другому ощущал свою кожу, стал безразличен к происходящему в стороне от меня и чувствовал принужденность, когда мне приходилось говорить о себе лично. Мое прошлое отлетело от меня, как детский шарик, и повисло в воздухе. События, происходившие 2000 лет назад, стали мне ближе, чем недавно пережитое.
Меня поражали собственные высказывания. Я говорил о том, о чем прежде даже не думал, и делал это с легкостью, которую невозможно было как-то объяснить. Новых слов я вначале не искал. Мои высказывания наполнились архаизмами и пафосом. Они стали вызывать дома трение. Не желая этого, я старался говорить современным языком и удерживал себя от проповедей.
Когда я начинал поучать сына, он говорил мне: «Отец, ты теряешь чувство юмора». Это было единственным, что смущало меня тогда, в первые дни: я и сам замечал занудство своих монологов. Тот голос, который я именую здесь с большой буквы, присутствовал в моих речах с переменной силой. Если они затягивались, в них было слишком много от меня самого.
Впрочем, немало от меня самого было и тогда, когда Голос набирал силу. Испытав на себе, как он себя проявляет, скажу: нет и не может быть его чистого звучания. Всякий смертный, кто делает его слышным для других, будь то пророк или простой человек, говорит что-то и от себя. И это не потому, что он так хочет. При взлете души поднимается пыль в хранилищах памяти и летит вместе с ней навстречу Голосу. Этой пылью осыпано всякое откровение, которое дается людям.
Из всех моих чувств самым сильным было удивление от происходившего со мной. Это состояние я прежде не знал. Назвать его «экстатичным» или «вдохновенным», значило бы ограничить его смысл, «религиозным» — вызвать недоразумения. Когда за религию принимают культ, чувство, с ней связанное, лучше именовать иначе. Я стал искать ему подходящее название. “Хочешь другие слова? Ищи их, ” — было мне сказано, и я, наконец, приступил к делу. Переосмысление понятий и поиск слов увлекли меня, как других увлекает спорт или искусство.
Мои усилия не были последовательными. Взять, к примеру, слово, которому я сначала воспротивился: мессия. С течением времени оно меня отталкивало все меньше, и я не стал искать ему замену. Я начал с ним срастаться. Я страстался с ним, но пользоваться им не стал. Если кто-то называл меня мессией, я не сопротивлялся, но сам я называл себя просто по имени: Владимир. Мне не хотелось сверхнапряжения в отношениях, неизбежного при употреблении высоковольтных слов.
Шло время, и я все меньше сомневался, что мне дано особое предназначение, и потому я назван “мессией”. Мне суждено было стать еще одним мессией в ряду многих других, появлявшихся после Иисуса. Я чувствовал себя мессией тех, кто бродил, как и я, по кладбищу истин – абсолютных, прописных, высших, общих, вечных. Тех, кто вглядывался там не в монументальные надгробия, а в просветы между ними. Тех, кто пытался чувствовать живую почву под ногами через покрывавший ее пепел святынь, прах идолов и шелуху омертвевших слов.
2
Сначала Голос звучал только для меня. Я стал расти. Мое самоощущение проросло через свою оболочку и растеклось. Я говорил «я», не зная больше, что это значит. Для других я был Владимир Ивашин, для себя – то сгусток, то разлив чувствительности в пространстве. Я был слух, спрессованный в одной из московских квартир, я был гортань, откуда исходил Голос. Что осталось от меня самого? Трудно сказать. Контуры моей индивидуальности потеряли отчетливость. Я воспринимал ее как какую-то постройку и ощущал себя не столько ею, сколько местом, где она находилась. Что это за постройка, все та же, что была до Голоса, или новая, стало второстепенным. Главным теперь было ощущение себя как места — живого места. Я сужался и расширялся, во мне что-то появлялось и пропадало, прорастало и отмирало, и среди всего этого не было ничего, что задерживалось бы надолго.
Происходящее во мне было мне несравненно интереснее того, что происходило в Москве. То, что кричал этот город, что его сотрясало, приводило в движение, что блестело в нем, не вызывало во мне больше отзыва, а его красочность, так привлекавшая меня еще недавно, выглядела теперь грубой.
Я перестал выходить из дома. Я видел только жену и сына – и то постольку поскольку. Сын поглядывал на меня с любопытством и ничего не спрашивал, жена же всякий раз повторяла, что не узнает меня: я не читал больше книг, не следил за новостями, не хотел ходить в гости или в кино, а главное – я перестал думать о деле. Прошло уже полгода после того, как я обанкротился, а основание новой фирмы затягивалось все больше. Когда жена возмущалась мной, я брал ее руки в свои или, если она позволяла, обнимал ее. Говорить мы не могли, потому что моя жена не желала меня слушать. Так продолжалось месяц, больше она меня не выдержала.
“Ты просто рехнулся!” — сказала она и ушла от меня. А мой сын Святослав со мной остался. Жена называла его Светиком, я – Святом.
“Свят, ты понял меня, а теперь пойми свою мать”, — говорил я сыну. – “Она не может то, что ей не под силу. Жить со мной, теперешним, ей не под силу, и она ушла. Дать тебе больше, чем она уже дала, ей не под силу, и она не позвала тебя с собой.» Сын отмалчивался.
Моя жена ушла от меня в обиде. Она хотела отплатить мне за нее и вывезла из квартиры всю мебель. Осталось только кресло-качалка, в котором я сидел. Я ничего не сказал жене, так как мог сказать ей только “спасибо”. Сказать “спасибо” мстящему — еще больше надорвать его сердце. Я отправил свое “спасибо” ей вслед. Незамеченное, оно последовало за моей женой, пока не погасло.
Когда жена захлопнула за собой дверь, я увидел и услышал то, что называют пустотой. В ней было столько энергии, что я не смог больше сидеть в кресле. Я буквально выпрыгнул из него и закружился, а потом упал и катался по полу, смеясь так громко, как плачет новорожденный.
Когда я опять уселся в свое кресло-качалку и мое дыхание выравнилось, я почувствовал грусть. Поднявшаяся волна обязательно опустится. Многие ли сознают, что всю жизнь качаются на волнах? Кресло-качалка помогает развить верное мироощущение.
Мою качалку сделал мой дед. Это кресло качало потом моего отца, теперь оно качало меня. Плавное качание отрадно душе, знающей жизнь как соединенность колебаний и их разнобой. Мой дед не знал, что смастерил совершенную вещь. Не знал мой нищий отец, что оставил мне в наследство большую ценность. Я осознал и прочувствовал в кресле-качалке законы движения и свое соучастие в них. Соучастие – однослов «синергии».
Нам с сыном было хорошо в пустой квартире. Он бросил школу и сначала просто наслаждался движением, как и я. Мы выбрали разные его формы — я качался в кресле, Свят бродил по улицам. Он приносил мне еду. Я не спрашивал, откуда она.
Чем больше размывалось мое самоощущение, тем отчетливее раздавался Голос. Мой сын был первым, до кого я его донес. Однажды Святослав взял гитару и пропел услышанное от меня. Так появилась его первая песня. Скоро за ней последовали другие.
Сын сказал мне, эти песни давались ему без труда: мои слова резонировали в нем как мелодия, и он проигрывал ее на гитаре. Каждую новую песню Свят пел сначала для меня, а потом выносил ее на улицы. Быть уличным певцом ему нравилось.
Вечером, вместе со Святом, к нам домой стали приходить люди. Взволнованные пением моего сына, они следовали за ним в стремлении продлить встречу. Все они испытывали неприкаянность, даже те, кто сумел устроиться в жизни. Это были люди, потерявшие свою веру: одни не верили больше в божка-бегуна Счастье, другие — в какого-то человека-идола, третьи – и таких было большинство – не могли или не хотели верить в Бога. Их тошнило от прославлений Его силы, поскольку они считали Его немощным: вокруг них происходили несправедливости, зло побеждало добро, гибли дети и буйствовала природа. Они больше не признавали над собой Бога-начальника, о котором им говорили батюшки. Однако они думали, что все же есть «что-то» — то, что одухотворяет плоть и соединяет все друг с другом. Не имея лучшего, некоторые из них называли это «что-то» «высшим разумом».
Разговаривая с ними, я тоже пользовался этим выражением, хотя предпочитал ему другое название: Господь. Мне нравилось, что можно было крикнуть: “Господи, помоги!”. Кому-то это и не надо, я же не знал ничего лучшего тогда, когда одолевало отчаяние. А как позовешь высший разум? Крикнешь в пространство “Высший разум, помоги!”? И еще я любил говорить “Господь мой”. “Высший разум мой” не скажешь. Но для рассуждений это название подходило.
То, что мои гости называли «высшим разумом”, а я – «Господом», давало себя ощутить свежестью, светом, гармонией, умиротворением, добротой и присутствовало всюду, в том числе – в них самих, но люди, приходившие ко мне, говорили о своей ностальгии. В ностальгии полно услады, и многим приятно чувствовать себя на расстоянии от места, куда тянет. Я был не их мессия. Я был мессия тех, кто этого расстояния не хотел. Их среди моих гостей я не встречал.
В подавляющем большинстве это были приезжие: командировочные, искатели лучшей жизни, беженцы, бродяги – все, как один, мечтатели. С ними первыми я заговорил о «черном огне», но они не могли увидеть его ни в себе ни в других. Тогда я рассказал им о звере ЛюбовИне, и они меня поняли.
Я рассказал им, что в устье сердца живет голодный зверь-сосунок Любовин. Он питается любовью, но сосет ее, только если она чистая. Если любви в сердце мало, Любовин вопит, и от вопля у него растут зубы. Если у Любовина появились зубы, он начинает грызть сердце и забывает о любви. Но если любви ему хватает и он насосался ею вдоволь, то он переплывает из устья сердца в море души и там растворяется. Внешне история о Любовине не похожа на историю о черном огне, но это лишь внешне. Зверь Любовин, черный огонь или еще что-то – это все о том, что прячется в сердце.
Если в дверь звонили, Святослав всегда открывал, не спрашивая, кто это. Он перестал петь на улицах, помогая мне принимать гостей. Скоро наша квартира уже не могла вместить и половины тех, кто хотел увидеть меня. Их приводило ко мне любопытство, а уводил от меня страх за свои мечты. От моих слов их мечты бились, как занавески на сквозняке, и они бежали от меня прочь. Они не хотели видеть, что находится за теми занавесками. Они думали, что за ними – пустота, а ее они боялись больше всего.
Мой сын выглядел в конце дня изнуренным. Прошло пятьдесят дней с той ночи, когда я первый раз услышал Голос, и я сказал Святу:
«Завтра — в путь».
Он радостно кивнул мне в ответ.
3
Когда два месяца спустя мне пришлось описывать внешность моего сына, я не знал, как назвать цвет его глаз. В нем много от зелени речной воды, через которую просвечивает песчаное дно. Его глаза я не мог назвать просто зелеными, а милиционер, расспрашивавший о Святе, не мог понять их цвет.
Я знал, что ему не найти моего сына, но уважал его поиск. Я сказал ему, что Святослава легче узнать по манере щуриться. Он всегда щурит глаза, словно им много того, что они видят. Только я, его отец, видевший его младенцем, знаю, как широко они могут быть открыты. Но широко открытыми его глаза уже давно не были.
Если и дальше говорить об «особых приметах» Свята — а об этом мы с милиционером как раз и говорили, то моего сына можно еще узнать по губам. Они всегда в движении. Это потому, что Свят отзывается всему, что видит и слышит. Его считают неразговорчивым, но он все время ведет разговор, только этот разговор неслышный. Когда я его просил:”Сын, не смотри так грустно”, его глаза веселели. Я не знаю никого, кто был бы так легок на отзыв.
Когда мы вместе отправились в путь, я сказал сыну:
«Я вижу тебя рядом еще пятьдесят дней, а потом я вижу тебя где-то вдалеке. Вот такое у меня мелькнуло видение. Это может значить все, что угодно, но только не то, что я тебя оставлю».
«Я тоже никогда тебя не оставлю», — сказал Свят.
Только теперь я знаю, что значило то видение. А тогда я подумал: “Так говорят все дети. Говорят — так, а поступают — иначе”.
Мы с сыном отправились на Павелецкий вокзал, что находился ближе других от нашего дома. Было раннее утро, и Москва смотрела на нас ртутными глазами прохожих, проклинавших этот мир, где они были обречены на работу.
Этим людям казалось, что другие попали на праздник Счастья, им же выпали толкотня и борьба. Они были изнурены обидами, завистью, ненавистью, страхами, тоской. Все это была боль. Она горела в их сердцах черным огнем, а он отсвечивал в их глазах, делая их тусклыми. Они испытывали слишком много боли и были звеньями в ее цепных реакциях.
Если их спрашивали, чем они занимаются, они называли свои профессии. Однако на самом деле, их главное участие в жизни было передачей боли. Они страдали от болезней и портили здоровье другим, они обманывались ближними и сами их разочаровывали, они изнывали от обид и в свою очередь обижали всех, кто попадал им под горячую руку. Я проходил мимо, приветствуя их, как знакомых, и те, кто замечали мое приветствие, пытались меня вспомнить.
Добравшись до Павелецкого вокзала, мы с сыном купили билет до станции Заречная. Мне понравилось ее название: станция за рекой. Она находилась в Тамбовской области, равнинном крае. И мне, и моему сыну хотелось простора. Но до Заречной мы не доехали. Где-то в середине дня мы увидели в окне местность, которая пришлась нам по душе, и сошли раньше – на станции Магдалино. Дальше мы передвигались пешком.
Если идешь, чувствуя ступнями землю и отдаваясь дыханию, то не замечаешь времени. Каждый раз, оказавшись на пересечении дорог, мы выбирали из трех направлений то, что обещало больше простора. Встречные удивлялись нам. Некоторые из них останавливались и пытались нас понять. Уважая их желание, я говорил им: “Я — Владимир, а рядом со мной — мой сын Святослав. Мы идем туда, куда нас ведут дороги”. Это был радостный день.
Под вечер мы вышли к месту, где была устроена столовая для сельхозбригады. Мы оказались там во время ужина. Группа мужчин и одна женщина сидели за длинным столом, стоявшем торцом к дороге. При виде нас на всех лицах отпечатался обычный вопрос: кто это? И хотя никто не произнес его вслух, я ответил на него. Я сказал им то же, что говорил другим.
Женщина, оказавшаяся поварихой, приняла нас за бомжей.
«Будете есть? — спросила она. — У нас осталось».
Мы со Святом получили щи и хлеб. Свободных мест за столом не было, и мы уселись на землю у обочины дороги, откуда могли видеть каждого.
Большинство из этих людей не походили на крестьян. Двое с бурой кожей — самый старый в бригаде и самый молодой, были явно деревенскими. Остальные, как мы потом узнали, приехали сюда на заработки из районного центра Лобова. Среди них выделялся мужчина средних лет с обожженным лицом по фамилии Фомин — самый улыбчивый из всех. Он ел мало и первым пошел к баку с водой мыть свою миску. Освободившись от нее, Фомин подошел к нам и сел рядом со мной на землю.
«Откуда вы?» — спросил он.
Ему я сказал больше, чем другим. Так Фомин узнал, что я слышу Голос. Он замотал головой, развеивая чувство, которое не сумел выразить словами, и спросил меня:
«Вы можете повторить свой рассказ для других? Им он тоже будет любопытен, я вам за это ручаюсь. Не удивляйтесь — здесь есть образованные люди «.
Я не удивлялся. Я смотрел на товарищей Фомина и узнавал в них себя прежнего. Это были униженные люди, карабкавшиеся прежде куда-то вверх и упавшие с карьерной лестницы. Ниже земли не упадешь, и на земле находятся все, но они переживали свое приземление как позор.
Я ответил Фомину утвердительно, и он объявил:
«Ребята, послушайте гостя!»
«Дай людям спокойно пожрать! — вмешалась повариха, которая держалась здесь главной. — Вот-вот прикатит хозяин.»
«Молчи, кухарка!» — разозлился на нее Фомин и кивнул мне:
«Прошу вас».
Этим людям я рассказал свой самый дорогой сон:
«Мне приснился бродяга в лохмотьях. Лохмотья у него были грязные, а лицо – чистое и взгляд дружелюбный. Мы шли навстречу друг другу, но расстояние между нами не сокращалось. Я хотел опустить глаза и не смог: взгляд встречного, хотя и был мягким, проколол меня насквозь. Я узнал его, но сделал вид, что он мне не знаком. Как-то незаметно тот бродяга пропал, а я скоро проснулся”.
Я оглядел своих слушателей в желании понять, догадались ли они, о ком идет речь. Было похоже, что догадались. Кто-то усмехнулся, продолжая глядеть в свою миску, кто-то ухмыльнулся мне в лицо, кто-то просто стал жевать медленнее или быстрее. А несколько человек перевели взгляд в мою сторону и уже больше не спускали с меня глаз. Я продолжил свой рассказ.
“Сон не давал мне покоя. Я не мог понять, почему я засуетился при виде библейского персонажа, никогда прежде не вызывавшего во мне эмоций. И почему этот сон не забылся, как все другие? А главное – с чего я это вдруг его увидел? В церковь я не ходил, религией не интересовался. В то время у меня была фирма, импортировшая компьютеры, дела шли хорошо, и я думал только о работе. Откуда выплывают такие сны? В недавнем прошлом я был математик и привык искать во всем ясность. Я не пользовался словами «сердце» или «душа». Для меня существовало сознание и подсознание. Все непонятные сны, в моих представлениях, приходили из подсознания. Но странное дело: что-то мешало мне связать с подсознанием тот сон, который не забывался. Позже я связал его с «десятым чувством». Оно не то же самое, что интуиция, которую называют шестым чувством — потому оно и десятое».
Я оставил Фомина и его товарищей с математической несуразицей, но вопросов не последовало. Лица, повернувшиеся ко мне, снова отвернулись. Эти люди настроились на занимательное, а услышали о «десятом чувстве». Я рассказал им не то, о чем меня просил их товарищ. Он просил повторить, что услышал сам, но я никогда ничего не повторяю.
Как и другие, Фомин не проронил ни слова. Он сложил пальцы замком и прижал их к груди, после чего закрыл глаза и замер.
Пожилой крестьянин встал и, еще угрюмее, чем был прежде, пошел к баку с водой мыть свою миску. За ним последовал парень, похожий на него. Задвигались и другие, восстанавливая занятия, от которых их оторвал мой рассказ. Внешне казалось, что они его сразу забыли.
4
Фомин, остававшийся сидеть рядом со мной, открыл глаза и задумчиво произнес:
«Значит, вы были математиком, из-за перестройки оказались в плачевном положении, а потом, как многие другие, занялись торговлей и разбогатели на спекуляциях. Мне вот что любопытно: как такой человек, как вы, может верить, что он мессия?»
Он задал этот вопрос с пытливостью ученого, участвующего в обсуждении оригинальной гипотезы.
«Так же, как вы верите, что я не мессия».
«Это не ответ», — упрекнул он меня.
«Что еще можно сказать о вере?»
«Да, о вере говорить трудно, — сказал он. – Но тем не менее вы собираетесь это делать».
«Я не собираюсь говорить о вере», — сказал я.
«Наверное, то, что я называю верой, вы называете этим самым «десятым чувством». Стоит ли спорить о словах? Вы уж позвольте мне пользоваться общепринятыми выражениями. Вот еще такой вопрос: неужели вы и правда думаете, что ваши проповеди могут быть в наше время кому-то интересны?»
«Кому-то – да».
«И кому же? Верующие вас слушать не будут, они слушают своих батюшек. Неверующие вас тоже слушать не будут – им интереснее смотреть телевизор».
«Есть еще люди с ностальгией по религии».
Он хмыкнул и сказал:
«Вы как-то странно выражаетесь: «люди с ностальгией по религии». Такого я еще не слышал. Да и что по религии-то тосковать? Храмов полно».
«Я не о храмах. Я о снах, как тот, о котором рассказал».
Фомин сморщился. Он больше не скрывал разочарования во мне.
«Ну ладно, я вас еще как-то пойму, ну а другие? Вы ведь словно на чужом языке говорите. Лексикон вообще-то тот же самый, но семантика какая-то сдвинутая. Вы понимаете, о чем я?»
Как мне было его не понять — он точно уловил, в чем было дело: именно в семантике.
«Черт с вами, делайте что хотите, — сказал он снисходительно. — Скажите мне другое: где вы собираетесь их искать – тех, что маятся «ностальгией по религии»? »
«А зачем их искать? Они везде. Здесь, например, это вы».
Он опять хмыкнул, в этот раз громко.
«Нет у меня такой ностальгии, мой дорогой. — сказал он. – Я самый что ни на есть неверующий. Только без телевизора».
«Ну тогда мы еще встретимся», — сказал я Фомину и двинулся к баку, где меня ждал Свят: он уже вымыл свою миску и не спускал с меня зовущего взгляда. Но Фомин поймал меня за рукав и остановил.
«Мой дорогой, но ведь все уже сказано, — произнес он с состраданием. – Ведь существует обширная богословская литература. Ну что вы к этому можете добавить?!»
Свят, находившийся теперь в двух шагах от нас, услышал продолжение нашего разговора и съежился.
«С чего вы взяли, что все уже сказано?» – спросил я.
Сострадание с лица Фомина слетело.
«Да бросьте вы умничать. Вы что, не знаете , что у нас, в России, все хотят верить, как полагается – даже те, кто перестал? А вы – о «десятом чувстве». Вы не тот, кого все хотят», — произнес он свой приговор и вынул из кармана брюк губную гармошку. Заиграв на ней что-то веселое, он отошел от меня.
Я взглянул на Свята – он смотрел в сторону, делая вид, что происходящее его не касается. Крестьянин с парнем убирали посуду в ящики. Я подошел к баку, вымыл свою миску и передал ее им, после чего попросил их направить нас к месту, где были бы река, лес и тишина.
«Идите к Абурину и ищите там», — буркнул пожилой, а молодой только скосил свой взгляд, но так и не решился довести его до моих глаз.
Я поблагодарил их, окликнул Свята и мы отправились дальше.
5
Где, как не в России, испытать ужас и благоговение перед пространством? Здесь всякое эхо – раскатистое. Здесь линия горизонта – случайная черта. Здесь от шири кружится голова и сбивается с своего ритма сердце. Здесь у каждого в крови страх затеряться. Здесь хотят не дорог, а оград. Здесь неутолима и яростна страсть касаться друг друга. Здесь касание как натиск.
Где, как не в России, обмануться расстоянием? Не замечать его, считать непреодолимым, мерить его не той мерой, видеть его там, где его нет, прикидывать его на чувство, как на глазок, и всякий раз называть иную длину. Здесь от простора захватывает дух. Здесь ничто не сдерживает размах, не ограничивает перепады, перехлесты, разбег. Здесь ищут очертания там, где их нет. Здесь разводят непохожее в стороны подальше друг от друга. Здесь собирают в одну кучу все темное, в другую – все светлое, доверяя без оглядки всякому освещению. Здесь неистово выглядывают огоньки во мраке, чтоб ориентироваться на них, а не на свою боль. Но если в бескрайности может быть точка отсчета или веха, то это только она, боль.
Где, как не в России мечтать о прочной религии, чтоб на всех – одна, чтоб одна – над всеми: общий покров, под которым не дует. Здесь боятся свободы. Здесь мечтают о воле. Здесь волю принимают за свободу. Здесь свободу принимают за одиночество.
Через поля, многие из которых выглядели заброшенными, мы добрались до Абурина и увидели за деревней лес. Пройдя через него, мы вышли к реке. Берег был высокий. Мы встали на краю обрыва и простояли там какое-то время, как два дерева. Мне не надо было говорить сыну: “Остаемся здесь”. Он это понял сам и первым лег на землю.
Я последовал его примеру и почувствовал спиной энергию, исходящую из недр. Она проходила через меня и рассеивалась в воздухе. Она заряжала и колебала воздух, а он будоражил всех, кто им дышал. Лишь в безмерной тьме, пребывающей над небесной голубизной, был полный покой.
Это было прекрасное место: спокойная река и широкий песчаный пляж, а за ним — крутояр. В округе это место считалось вотчиной местных рыболовов, которые приплывали сюда на моторках, ставили палатки на пляже и жгли костры. Пляж так и называли: Рыбацким. Когда мы спустились к нему с обрыва, там стояла только одна палатка. Недалеко от берега я увидел на воде лодку. В ней сидели двое с удочками.
Первым делом мы со Святом стали убирать валявшийся на песке мусор. Рыбаки в лодке следили за нами. Я помахал им рукой в знак приветствия, но тем только насторожил их еще больше. Все, что можно было сжечь, мы со Святом собрали в кучу и сожгли, все, что надо было закопать, мы закопали. Радостно было видеть потом чистый песок.
Когда начало темнеть, рыбаки вернулись на берег, а мы со Святом поднялись на откос. Там, на краю леса, мы увидели стоявший в стороне от других деревьев ясень. Устроившись под ним, мы вместе молча смотрели на первые звезды.
«Отец, зачем ты рассказываешь свои сны людям, которым на тебя наплевать?» – вдруг разрезал пространство надвое голос моего сына. Мы с ним снова оказались в той его части, где клубятся мысли и чувства, где время ломается на куски, где раздробленность, разобщение, разброд и постоянен лишь плач о любви.
«Тебе было стыдно за меня?» – спросил я.
«При чем тут стыдно?» – пробормотал Свят. «Это просто бессмысленно», — добавил он и замкнулся.
Прежде, в Москве я был для окружающих величиной, сегодня же стал проходимцем. В таком унижении Свят меня еще не видел.
Прошло какое-то время, и тишину перерезал я.
«Сын, унижение – это то же, что и снижение. Это приземление.…»
«Глупая шутка, отец. И пошлая”, — перебил меня Свят. Ему было шестнадцать лет, и он не выносил позора. — “У тебя вообще плохо с чувством юмора».
Отругав меня, сын успокоился и скоро уснул.
6
Ночью пошел дождь, и мы с сыном промокли. Утром было решено сделать шалаш. Когда он был готов, мы опять отправились к реке.
Начинался вечер. На песчаном берегу находились те же двое рыбаков, которых мы видели вчера. Это были братья Ионевы, Петр и Андрей. Я поздоровался с ними, и Петр спросил, как все:
«Кто вы?»
Я назвал себя и своего сына, но недоверчивому рыболову надо было знать, чем мы занимаемся и что мы здесь делаем. У меня в голове звякнуло слово, брошенное Фоминым, и я сказал Петру:
«Мы семантики».
О семантиках он слышал впервые. Я объяснил ему, что сема – по-гречески знак, а семантика – наука о значениях. Братья Ионевы напряглись, как напрягаются люди, встретив жулика.
«В сущности, наши с вами занятия очень похожи, — сказал я. – Вы – ловите рыбу, мы – ловим значения».
Это сравнение братья приняли за шутку, и их настороженность ослабла. Андрей похвалил нас за уборку Рыбацкого пляжа, но усомнился в ее пользе.
«Вот объявятся здесь другие рыбаки, и будет то же самое», — сказал он.
«Тогда я опять уберу», — пообещал я.
Братья собирались ужинать. Они предложили нам своей ухи, и мы не отказались. Потом мы вчетвером смотрели на реку. Каждый из нас думал о своем, пока Андрей не завел разговор о рыбалке.
«Я по натуре нетерпелив, неспокоен, можно сказать – суетлив, а вот сидеть в лодке и смотреть на поплавок могу часами, и нескучно. Интересно, почему такое?»
«Я знаю, почему на рыбалке нескучно, — сказал я, — но коротко это не объяснить».
«Неужели это так сложно?!» – спросил Андрей, колко глядя на меня. Он воспринял мой ответ как издевку.
«Да, это сложно», — подтвердил я.
«И сколько же времени вам требуется для объяснения?»
«Два часа».
Солнце между тем уже коснулось горизонта. Петр поднялся и позвал брата спать.
«Успеем, — сказал тот, забавляясь моим предложением. – Давай послушаем человека!»
«Два часа?!»
«А что? Коль надоест, уйдем раньше».
Андрей перевел взгляд на меня и спросил:
«Если нас сморит, вы ведь не станете нас удерживать, правда?»
«Не стану, — подтвердил я. – Но и не стану начинать, раз вы не уверены, что дослушаете до конца».
Братья теперь смотрели на меня озадаченно, не умея разобраться во мне: шизофреник – не шизофреник, трепач – не трепач, ученый – не ученый – кто я?!
Я пояснил:
«В семантике рыбалки свернута длинная цепь значений, и потому ее высвечивание не может не быть продолжительным. Начинать его надо, как минимум, с душевной тоски рыбака. И если уж браться за эту работу, то надо довести ее до конца. Иначе усилия окажутся бессмысленными, а тогда уж лучше отдыхать».
“Высвечивание…”, — протяжно повторил за мной Андрей и усмехнулся.
«Вот-вот, и я так думаю: сейчас надо идти отдыхать, — сказал Петр, обрадовавшись возможности избавиться от не интересного для него разговора. – Ты, Андрюха, не забыл, что мы встаем завтра в пять?»
«Да ладно тебе! – отмахнулся от него Андрей. — Дай послушать человека. Если хочешь спать, иди. Я приду потом».
Но Петр спать не пошел, потому что у него была причина не оставлять брата одного с людьми, которых он не знал. Он опять сел на землю.
«Да, кропотливое это дело – семантика, — сказал Андрей, и глаза его заблестели. – Интересно, а как же так получилось, что вы ею увлеклись?»
Я рассказал братьям Ионевым о Голосе. Они многого не поняли и задавали вопрос за вопросом, совершенно забыв, что говорить мы должны были о рыбалке. Спустя час, а может быть и больше, я им об этом напомнил.
«Нельзя ли перенести «высвечивание значений» рыбалки на завтра?» – спросил Андрей.
Я согласился. Петр поинтересовался, сколько мы думаем пробыть на Рыбацком пляже.
«Наперед не скажешь, — ответил я. — Я гость и завишу от гостеприимства».
Была уже ночь. Петр с Андреем отправились в свою палатку, а мы с сыном — в свой шалаш.
7
На следующий день, после того как братья Ионевы вернулись с рыбалки, мы опять сидели на пляже вчетвером и говорили о жизни. Андрей спросил:
«А вообще, что такое – жизнь? Борьба за существование? Борьба противоположностей? Игра? Иллюзия? Скачок космической энергии?»
Такой набор вопросов был замечателен сам по себе. Измени вопросительную интонацию на повествовательную – и вот тебе неплохой ответ.
«Ведь что открылось сейчас, в нашем всероссийском бардаке: жизнь – не то, что о ней думали все нормальные люди. И тех законов у нее нет, которые мы выучили, — продолжал Ионев-младший. — Да есть ли у нее в действительности вообще какие-то законы? Что ни возьми, все глупость или обман».
«Один закон есть уж точно, — сказал я. — Закон многообразия».
Тут мы увидели еще одну лодку, где сидели двое ребят. Как Петр и Андрей Ионевы, те двое тоже были братья. Звали их Яша и Ваня Зеведовы, братья-близнецы. Их одинаковость была не видна на расстоянии. Мы обнаружили ее, когда они подплыли к косе.
«Вот тебе и многобразие!» – смеясь воскликнул Петр и указал рукой на близнецов.
«Да, промашка у вас получилась!» — поддержал его Андрей.
Однако на самом деле промашки не было.
«В этих двоих, — сказал я, — закон многообразия воплотился дважды. Большинство людей появляется на свет в единственном экземпляре, они же родились близнецами, – это раз. Но, родившись близнецами, они стремятся быть непохожими друг на друга и способствуют утверждению многообразия еще и таким способом.»
У близнецов были одинаковы только черты лица и физические пропорции. Одежда, прическа, манера двигаться, взгляд — все это находилось в контрасте. Ваня — шатен с короткой бородкой, одетый в пестрый спортивный костюм, размеренно греб, не обращая на нас внимания. Яша же — крашеный блондин, стриженный бобриком, весь в черном, бездельничал у неработавшего мотора и зло поглядывал на нас. Не слыша нашей дискуссии, он, тем не менее, принимал ее на свой счет и кипел.
Близнецы причалили к другому краю Рыбацкого пляжа и стали выгружать свои вещи из лодки, громко переговариваясь друг с другом. Они вели себя так, словно на косе, кроме них, никого больше не было.
«Похоже, мы обидели их,» — сказал я и отправился к новоприбывшим. Другие последовали за мной.
Этим ребятам было лет двадцать. Они не знали, что от нас ждать, и петушились, особенно блондин Яша, родившийся первым и державшийся старшим. Он решил, что будет драка, и ждал ее в напряжении.
«Хочешь знать, что я сказал о вас? — спросил я его. – Ты и твой брат хорошо взаимодействуете с главным законом жизни».
Близнецы посмотрели на меня сосредоточенно, как рыбаки смотрят на внезапно двинувшийся поплавок.
«Жизнь – это ускоренное воплощение многообразия, ни больше ни меньше. Мы вкладываем в нее массу других значений, но это желаемое, а не действительное,» — сказал я.
Яша ухмыльнулся и побольше взъерошил пальцами свой бобрик. А Ваня, в отличие от брата мало занимавшийся своей внешностью, спросил:
«К чему оно, это многообразие?»
«Чтобы могла быть вечность».
Мой ответ позабавил близнецов. И на их лицах одновременно появилась добрая улыбка. Андрей предложил им оставшуюся уху, как это сделал вчера при знакомстве с нами. И как и мы, братья Зеведовы не отказались.
Наша четверка вернулась к костру, и скоро к нам присоединились Яша с Ваней. У одного в руке были две миски, у другого — бутылка водки и два стакана.
«Сначала надо будет отметить наше знакомство, — сказал Яша. – Вам куда налить?»
Братья Ионевы вдруг стали хмурыми.
«Мы с Андреем не пьем», — сказал Петр.
Яша перевел взгляд на меня и спросил:
«Вы-то хоть нормальный?»
«Не открывай свою бутылку, — сказал я ему. — Угощаем – мы».
Я дал Святу знак, и он принес к костру ведерко с питьевой водой, стоявшее в стороне. Вода светилась. Я взял ведро и стал тихонько качать его у огня. В воде заиграли блики. Их игра трогает меня, и я могу долго на нее смотреть.
Когда я поставил ведро обратно на землю и перевел взгляд на своих друзей, то увидел на их лицах недоумение. Они пытались схватить смысл моих действий, но он им не давался, как не дается рыбаку пескарь при ловле голыми руками. Чтобы добиться своего, рыбак мутит воду, семантику же нужна прозрачность, а ее на семантических глубинах не бывает.
«Важно не что пить, а пить вместе! Верно, Яша?» – спросил я.
Яша пожал плечами.
«Вот именно, в хорошей компании и вода хороша!» — поддержал меня Петр, а Андрей и Ваня молча уставились в землю.
«Что еще важно – это намерение, – добавил я. – Для чего ты взял с собой водку, Яша?»
«Для чего для чего… — занервничал тот. — Ясно для чего: чтоб расслабиться. Чего тут спрашивать?!»
Многие из напивающихся до самозабвения, того не зная, поднимают бунт против инстинкта самосохранения. Ведь чем так хорошо опьянение? Тем, что выходишь из своих берегов и, как минимум, сливаешься со своей компанией. Однако не менее, чем марево, ум привлекает прозрачность. Покой и удивление – его главные потребности, и первое он находит там, где стирание линий, расплывчатость, смутность, аморфность, расслабление, а второе — там, где четкость, острота, блеск, чистота, свежесть. Водка и вода – все равно что два поезда у одной платформы, которые касаются друг друга задними вагонами.
«Чистая, прохладная вода обостряет восприятие, — сказал я Яше. — Это знают бедуины и другие народы пустынь. И это совершенно не знают жители городов, где вода течет из крана. Я не услышал бы Голос, если бы не предпочел прозрачность мареву «.
Я заметил, что взгляд Андрея стал пристальным, словно он почуял надувательство.
«Иными словами, вы пили горькую, а потом бросили. Так ведь?» – спросил меня без обиняков Ионев-младший.
«Да, — согласился я. – это будет так, если моему рассказу отрезать голову, плавники и хвост, затем отделить мясо от его хребта и все, кроме хребта, выбросить. Конечно же, если вы ихтиолог и специализируетесь на рыбьих хребтах, то вам больше ничего и не надо».
«Я понимаю, что вы имеете в виду, — смутился Андрей. – Я спросил вас так бесцеремонно, потому что у меня к этому обстоятельству вашей жизни особый интерес. Я ведь тоже… скажем так, злоупотреблял».
Интерес к тому, как я бросил пить, проявили и другие, и тогда я рассказал, как было дело.
8
Случилось это в последний кризис, который вызвал шквал банкротств. Я тоже тогда потерпел кораблекрушение. Все мы, капитаны-неудачники, поддавали, чтобы не видеть свои разбитые корабли. Надежнее водочной алхимии, проверенной в России веками, ничего не стало. Если дым жидкого огня не преобразовывал твердое и острое в мягкое и переливчатое, то он, по крайней мере, застилал зрение и делал это быстро. Ослепшие капитаны брели по Москве, натыкаясь друг на друга. Среди них был и я.
Однажды я случайно встретил своего бывшего одноклассника, которого у нас в школе дразнили Поленом. Я тоже считал его дураком. Как оказалось, и Полено из-за финасового кризиса попал в ту же историю, что и я: банкротство плюс сбежавший с остатком денег друг-компаньон плюс бутылка водки в день. Я торговал компьютерами, он — шубами, вот и вся разница. Тот, кого я считал дураком, разговаривал сейчас со мной на равных, и правильно делал: пусть мой мозг был качественней, но что толку? Только я это подумал, как мой мозг заработал: эта мысль, похоже, его уязвила. Из-за алкоголя он не мог хорошо состредоточиваться. Мой мозг метался от одного к другому, но он ожил, задвигался и остался в движении.
Я вернулся домой и налил себе стакан воды — после выпивки меня мучила жажда. Был солнечный день. Когда я подносил стакан ко рту, в воде блеснула искорка света. Ее блеск уколол меня. Он уколол меня чувственно, как это делает ноготок возлюбленной в любовной игре. Первый раз я пил воду, замечая ее прохладу в горле, и это было огромным удовольствием. Я налил потом себе еще один стакан, потом еще один. Вода давала мне ощущение, которое водка дать не могла: ощущение свежести. Мой мозг увиделся мне сверкающим кристаллом, и только я себе его так представил, как он заработал еще лучше. Он стал искать алгоритм двух крушений: Поленова и моего. И вот первое, что он установил: крушения не было. Его не было, поскольку не было ни корабля, ни моря, ни плавания. Были две мечты о плавании, в деталях – разные, но одинаковые в главном: они застилали реальность. Только в тумане мечты можно принять фирму за корабль, а торговлю – за море.
Мои размышления прервал мотоциклист, пронесшийся по моей улице с оглушительным ревом. Я подошел к окну и посмотрел вниз. На проезжей части было много машин. Их выхлопные газы поднимались вверх и влетали в мою форточку. Я никогда не придавал этому значения. Но стоило мне только подумать о загазованности воздуха, которым я дышал, как я почувствовал вонь от произжавшего транспорта. В следующий момент мне бросились в глаза деревья вдоль тротуара. Если мне, любителю природы, и стоило чему-то внимать в городе, то это им. Но я, проходя мимо деревьев, их не видел. Чем дальше я анализировал свое зрение, тем больше обнаруживалось, насколько его подменило умозрение. Лишь тогда, когда сталкиваешься с реальностью лбом, снова видишь ее в полной мере.
С другими было точно так же. Большинству из нас реальность не по размеру, не по вкусу, и что еще противнее — она к нам равнодушна. Глядя на то, что тебя окружает, хочешь другого. Потому и столько мечтателей.
С этими мыслями я смотрел на улицу под моим окном и не давал своему вниманию улететь от нее прочь. Пока только это: я не давал себе больше мечтать. В тот момент я еще не сознавал, что во мне произошла огромная перемена: мне больше не хотелось размывать, подсвечивать, утеплять реальность. Я заметил то, что раньше не замечал: реальность бросала мне вызов. Смысл его до меня пока не доходил, потому что она обращалась ко мне на своем языке, который я еще не мог понять. Перевести ее язык на мой было намного труднее, чем найти иероглифам словесные эквиваленты, но сложность задачи делала ее только привлекательней. Вскоре после этого я услышал Голос. Так я стал семантиком.
9
Всякое состояние может повторяться, если настроиться на его отпечатки в памяти. Возвращение к воображаемому кристаллу стало моим первым опытом метафизики. С тех пор, как я испытал энергию свежести, я перестал пить водку. Здесь, у реки, с водой в ведерке, я вознамерился увлечь моих друзей метафизической трезвостью.
Я омочил свое лицо водой. Это было начало ритуала, который сложился сам собой. Главное в любом деле — сжать внимание, как луч, и направить его на что-то одно. Ритуалы в этом помогают. Что они в себя включают, не важно, важно – сформировать поток внимания. То, на что его направляешь, входит в тебя и действует в тебе.
Я взял ведерко двумя руками, поднес его ко рту и сделал двенадцать глотков – каждый со своим значением. Затем я закрыл глаза и ушел в себя. Сын и наши друзья терпеливо ждали моего “возвращения”. Когда я открыл глаза, то заметил сходное движение, одновременно проделанное всеми пятерыми: голова каждого из них качнулась назад, а веки чуть сжались. Это была реакция на блеск в моих глазах – он появлялся всегда при переключении внимания на «сверкающий кристалл».
Как я и рассчитывал, мои друзья тоже захотели это испробовать. Ведерко с водой пошло по кругу. Последним, кто приложился к нему, был Петр, и именно он, самый скептичный из всех нас, испытал от «блеска кристалла» настоящий экстаз. После того, как ведро вернулось ко мне, я отнес его обратно к лодке братьев Ионевых, где было ему место.
Когда я снова присоединился к компании, то заметил, что мои друзья растеряны, а Петр – в слезах.
«Это был гипноз?» — спросил он меня.
Я не гипнотизер, и это единственное, что я мог сказать по этому поводу. Эффект, вызываемый фиксированием всего внимания на одном явлении, названия не имеет.
«Вечная драма семантика – поймать какое-то значение и не суметь назвать его, — признался я. — В нашем языке вообще не хватает слов. Вот например, я говорю «десятое чувство», но разве это название? Этому чувству в нашем языке имени нет. Если бы религию не смешивали с культами, то можно было бы называть его религиозным».
«Почему вы вдруг заговорили о религии?» – насторожился Яша.
«Я все время говорю о религии «, — сказал я, и он засмеялся, не поняв, что это было всерьез.
«А какое чувство девятое?» – поинтересовался Ваня.
«Девятого чувства, собственно говоря, нет. Как и восьмого и седьмого. Есть пять органов чувств — пять дверей в сознание. Кое-кто считает, что есть шестое чувство – интуиция, но я имею в виду не ее. Шестое чувство может быть лифтом к десятому».
«Тогда оно не десятое, а седьмое», — сказал Ваня.
«Нет, какое угодно, но не седьмое, — сказал я. – Это чувство другого порядка. Потому и счет ему другой.»
Петр встал и пошел к реке. Андрей окликнул его, но Петр не отозвался.
«Что это он задумал?!» — обеспокоился Ионев-младший и пошел за братом.
Петр разделся и, не обращая внимания на Андрея, стал заходить в воду.
«Топиться будет», — прошептал Ваня, и его лицо стало детским.
«Чего ты несешь?!» – одернул брата Яша, но было похоже, что и он подумал то же самое.
«Эй, Петр, вода холодная?» – крикнул Свят. Если другие терялись, он подавал голос.
«Теплая!» – крикнул в ответ, не оборачиваясь, Петр и бухнулся в воду. Нырнув, он стал общительнее.
«Чего вы там сидите? – крикнул он нам. – Идите окунитесь! Вода как парное молоко!»
Андрей уже снимал брюки. Братья Зеведовы и Свят принялись раздеваться прямо у костра, после чего побежали с гиками и криками к реке.
«Вода-то – ледяная!» – услышал я Ванин голос.
Пошел плавать и я. Это стало потом для нашей компании традицией – есть вместе уху, вести разговор у костра, а потом смывать его в реке.
10
Братья Ионевы и близнецы Зеведовы решили остаться на Рыбацком пляже. Всех их, кроме Петра, никто нигде не ждал: Андрей, бывший школьный инспектор, и Ваня с Яшей, бросившие учебу в институте, не имели ни семьи, ни работы.
Деятельный и семейный Петр, владелец двух гаражей в районном центре Лобов, тоже вознамерился проводить большую часть времени на Рыбацком пляже. Он считал, что его младшему брату, недавно бросившему пить, требовался надзор. Петр не верил, что Андрею теперь всегда будет нужна только свежесть. И здесь он был прав: ничто не бывает “всегда”.
Яша и Ваня поставили свои палатки у подножия откоса, а Петр с Андреем уплыли обратно в Лобов и вернулись оттуда с буксиром. Это был не годный для плавания катер. Братья Ионевы втащили его на берег и врыли в песок. Катер превратился в домик.
«Летом мы с братом будем пользоваться им сами, а осенью он перейдет вам со Святом. К зиме я поставлю в нем для вас печку,» — сказал мне Петр. Меня тронула его уверенность, что мы с сыном останемся зимовать на Рыбацком пляже.
Наши новые друзья полюбили Святослава. Они любили его не как младшего брата, а как любят волнующие сны, талисманы, семейные легенды. Если для младшего брата старшие делают больше, чем для других, но не все, что тот просит, то Святу наши друзья не отказывали ни в чем . В их преданности ему не возникало даже коротких замыканий, как это бывало с преданностью, которую они чувствовали ко мне.
Я был для них ветром, освежающим, но продувающим насквозь, а Святослав – яблоневым деревом в цвету, радостным для глаз и обещающим сочные плоды. Я сдувал мечты, в которые они кутались, а те, разлетаясь, оседали на моем сыне. Его юность казалась им идеальной. В ней имелось много из того, что не состоялось в их собственной жизни – как минимум, дружба с отцом, незаметно делающим прививки от вредных привычек и ненужных желаний. Мой сын, яблоневое дерево, цвел в безопасности, созревал без помех, ему хватало пространства, солнца и питания, ему повезло с садовником – так это им виделось.
Свята привлекал огонь. Это он стал зажигать костер задолго до ужина. На этом костре мы варили уху, а потом устраивались вокруг него на ужин.
Когда смотришь в огонь, хочется говорить о сокровенном. Когда открывается сердце, полнее дышит душа. Когда полнее дышит душа, заметнее “десятое чувство”. Ради этого мы собирались каждый день у костра и просиживали там до ночи. Скоро к нам стали присоединяться другие: рыбаки, приплывавшие сюда на катерах, и люди из окрестностей, что-то о нас прослышавшие.
Святослав называл происходившее у костра «костерством», с ударением на последнем слоге, как в словах «мастерство» и «естество». Неуклюжее и корявое, оно нам, шестерым, понравилось. Но только нам. В округе наши вечера у костра стали называть “сходами”. На Рыбацкий пляж приходило все больше людей, и они перенимали друг от друга это слово.
Ни Святослав, ни я этому не сопротивлялись, а вот Яша держался воинственно. Если кто-то спрашивал его, к примеру: «У вас сход каждый день?» — или, допустим: «Много народу собралось вчера на сходе?» – он делал вид, что не понимает, о чем речь. “Какой еще “сход”? Нет здесь никаких “сходов”. У нас здесь каждый вечер проходит костерство”, — говорил Яша.
Но его отпор не помогал. И в этом случае, и в других проявлялось всеобщее сопротивление новым словам.
Я не помню в своей профессиональной деятельности проблем, которые были для меня так же тягостны, как те, что возникали теперь со словами. Мой сын и наши четверо друзей относились к ним легче, однако общение с посетителями “сходов” заставляло и их углубляться в семантику.
Когда их спрашивали: «Кто вы друг другу?» – все они испытывали замешательство. Раз, дождливым вечером, когда мы были только вшестером и сидели в катере братьев Ионевых, возник тот же вопрос.
«Ну как кто?! Друзья, конечно», — сказал убежденно Андрей, поскольку мы перешли на «ты» и стали тесной компанией.
Петр спросил меня: «Ну а ты что скажешь, Владимир?»
«Случайные встречные», — ответил я и увидел на четырех из пяти лиц разочарование: братья Ионевы и близнецы Зеведовы воспринимали Случай не так, как я.
Случай – это не закон природы. Случай не подвластен никаким законам. Он в них вмешивается, он их попирает. За ним — неизвестно чья воля. Как-то раз я вдумался в эти общеизвестные истины, и у меня захватило дыхание. С тех пор я пишу Случай с большой буквы.
Лишь Свят меня тогда понял и, не вынося возникшую заминку, предложил:
«Давайте назовемся “костерным обществом». Сокращенно это будет «Кобщество».
«Кобщество», еще одно новое название, опять же всем понравилась. Оно было зеркальным, но со вмятиной, ясным, но с зазубриной, прозрачным, но с поволокой, а главное — оно было единственным на свете. Правда, единственным на свете было и слово “костерство”, но “кобщество”, в отличие от него, не вызывало трудностей артикуляции, и потому имело больше шансов привиться в общем речевом обороте.
“Ну а главное, — сказал я, — «кобщество» хорошо передает то, что именно происходит на Рыбацком пляже».
«И что же это такое?» – спросил Андрей с ухмылкой, дававшей понять, что он еще не простил мне «случайных встречных».
«Общение», — ответил я.
«Общение – только и всего?» – спросил в недоумении Яша.
«А разве это мало при разобщении?»
«Ты это о ком? — спросил Петр. – Надеюсь, не о нас?»
«И о нас тоже».
“Вот тебе и на! – воскликнул Ваня. — А нас-то что разобщает?”
«То же, что и всех. Мечты».
“Вот тебе и на! – снова воскликнул Ваня. — Это почему же?”
“В них много эгоизма”.
«Что ты все о мечтах и мечтах?! При чем тут мечты? – взорвался Петр. — Есть общее – значит есть общность, а когда каждый свою палку гнет – тогда разобщение. Все просто.»
Я спросил Петра, что он подразумевает под «общим», и оказалось, что он имел в виду самое разное: прошлое, цели, ценности, желания. При высвечивании значений в этом «общем» рано или поздно обнаруживался сухой и рыхлый слой. Стоило его тронуть – он рассыпался как пыль, и открывалась пустота. И то «общее», что потом называли Андрей, Ваня и Яша, также не выдерживало семантической проверки , если было чем-то умозрительным. Что ее выдерживало – это солнце, земля, ее воды, воздух и «что-то», что дышало во всех нас.
11
«Никто не дышит сам», — сказал я, и оказалось, что братья Ионевы и Зеведовы этого не замечали.
«Если бы мы дышали сами, мы бы смогли перестать дышать, когда бы захотели. Но мы можем только задержать дыхание».
Чувство, что в тебе «что-то», — а то и «кто-то» — дышит, очень тревожное, но такое беспокойство рано или поздно переходит в свою противоположность. Ведь пугает не столько гулкость этого чувства, сколько ее объяснения. Выйдя из замешательства, братья Ионевы и Зеведовы задумали дать название этому «что-то». Они не хотели называть его Богом. Они взялись искать совершенно новое название: не тронутое пастырями прошлого, не затертое, не опошленное, всем понятное, волнующее. Братья Ионевы и Зеведовы перебрали много слов, но не нашли такого, которое подошло бы всем.
“Говорим, вроде, на одном языке, а он словно не общий”, — пробормотал Петр.
«Откуда ему взяться, «общему языку»?! — поддержал брата Андрей. – “Все понятия теперь висят в воздухе, как пыль, выбитая из перины. Вот другой пример: «родина»! Еще недавно «родина» была самым святым для всех и каждого, а что теперь? Посмотрите, что делается в школах – вот уж где полный семантический бардак. Ребята не знают, кого им слушать. В учебниках одна семантика, у учителей – другая, а ведь есть еще родители и своя социальная среда».
«Семантическое многообразие мешает не всегда, — сказал на это я. – Это смотря как к нему относиться — как к чему-то естественному или как к отклонению от нормы. Общей семантики никогда и не было. Разве когда-то было такое, чтобы все одинаково понимали, что есть «любовь», «справедливость», «добро»?.. »
«Я слышать такие слова больше не могу,» – оборвал меня Андрей.
А откуда взять другие?
Однажды после схода ко мне обратился Ваня.
«Ты что, и правда думаешь, что ты этот… как его…»
Он запутался в вопросе, так и не выудив из памяти «мессию».
«Да», — подтвердил я.
«Но ты же сидишь все время на Рыбацком пляже и ничего не делаешь», — поддержал брата Яша.
«А что надо, по-твоему, делать?» – спросил я.
Но этого близнецы Зеведовы не знали.
«Так ведь разговоры только ведем…» – пробормотал Яша.
«Так ведь ничего не происходит…» — добавил Ваня.
Происходило же многое. Над Рыбацким пляжем раздавался Голос. Неважно, что в этом мог быть уверенным только я. Мой это был голос, или нет, он освобождал слова, и, выпущенные на волю, они влетали в головы людей, сидевших у костра. И что там только ни вытворяли ожившие слова! Наталкиваясь на перемычки, принимаемые за связь явлений, они становились крысами, змеями, древоточцами и подтачивали препоны, разделяющие ум и десятое чувство, прокусывали их, растворяли своим ядом.
Мера свободы слов — мера обозримости пространства. Когда слова вырываются из окостеневших выражений и стряхивают с себя пыль времени, “незыблимые истины” начинают зыбиться. Мы сидели на земле, у нас перед глазами горел огонь, рядом текла река, наши лица освежал ветер. И вольнодумство, отклокотав в словах, давало ровную радость религии. Нищая, без поучений, без правил, без догм, не имеющая ни скелета, ни оболочки, религия незаметно вдыхалась и выдыхалась, как воздух.
12
Перед тем, как вернуться с заработков обратно в Лобов, Фомин пришел попрощаться со мной — так он объяснил мне свое появление на Рыбацком пляже. Он предстал передо мной, когда я убирал мусор, оставшийся после последнего схода. Как обычно, бумажки и окурки валялись везде. Собрав граблями несколько кучек, я стал сгребать мусор охапками в мешок.
«Вы всегда берете всякую грязь голыми руками?» – брезгливо спросил Фомин.
Я действительно мог взять в руки все, что угодно.
«Вы это делаете в назидание другим, верно? Это ведь им урок, правда?» — расспрашивал Фомин, не веря, что я убирал Рыбацкий пляж, потому что любил это занятие.
Я понес мешок к костру, который только что разжег Свят. Сам он, завидев следовавшего за мной Фомина, поспешил скрыться. Подбросив в огонь веток из заготовленной на сегодня кучи, я стал сжигать мусор. Фомин, продолжавший наблюдать за моими действиями, спросил:
«Вы еще не разуверились в том, что вы мессия?»
Услышав, что этого не произошло, он стал допытываться дальше.
«А как вы представляете себе мессианство? В Ветхом Завете мессия – помазанник Божий, то есть тот из евреев, кого Бог выбирает перед концом света для спасения народа Израиля, только его. В Новом Завете мессия – сам Иисус Христос, и его миссия – спасти все человечество. Отсюда получается следующее: если кто и придет снова спасать всех нас, то это опять будет Он. Так вот, если исходить из традиционных представлений о мессианстве, то вы не можете быть “мессией”, вы согласны?»
«А зачем исходить из них? Господь теперь решил чаще посылать мессий, поскольку сразу никого не спасти. Суть спасения сразу и не понять.»
Фомин вынул из кармана губную гармошку, продул ее, после чего спросил небрежно:
«А вы, надо думать, ее понимаете – эту «суть спасения»?»
«Я слышу Голос».
«Помню-помню, вы мне говорили».
Фомин усмехнулся воспоминанию о нашем первом разговоре и спросил меня:
«Вас не смущает репутация шарлатана?»
«Она была у всех мессий. Я просто еще один».
«Такое утверждение не может не вызывать споров. Их у вас уже было немало, верно?»
«Да, люди спорят со мной».
«Люди спорят со мной», — повторил он мои слова с гримасой и спросил:
«А что же – вы?»
«Я споров не веду.»
«Интересно, как это понять? И потом, почему вы их не ведете? В споре рождается истина.»
«Истина не рождается и не умирает. Каждый узнает ее в той мере, в какой участвует в синергии».
«О! – воскликнул Фомин, вглядываясь в меня внимательнее. – Вы тоже, значит, читали теологическую литературу?» – спросил он меня, одновременно убирая свою губную гармошку.
Как оказалось, он сделал такое заключение, потому что «синергия» – важное понятие в исихазме. Его основоположник, Григорий Палама, называл «синергией» взаимодействие Бога и человека в сотворении мира. Этого я не знал. Я взял «синергию» в свой лексикон из научного, где это слово означает соединение импульсов, сил и энергий в целостном действии. И получалось то же самое: сотворение мира.
«И получилось то же самое», — повторил за мной Фомин. Его взгляд пролетел через меня в даль и остался в ней.
«Я увлекался в прошлом исихазмом, — продолжил мой гость. – Тоже догматизм, конечно, но с другой тональностью, без монотонности нашего официального православия в исполнении среднестатистического батюшки. Я ведь тоже вместе со всеми после перестройки подался в церковь. У всех нас тогда был духовный голод. Я был готов на все – ходить на службы, причащаться, исповедоваться, каяться, смиряться. Но этот среднестатистичский батюшка меня, маловерного, добил. Он сделал меня неверующим. Я помню, что вы говорили о «ностальгии по религии». У меня другая ностальгия: по личной свободе. Да и у других – тоже. Всем сейчас хочется только свободы. Какое там к черту «десятое чувство»! Не оно правит бал, а желания. Свободные люди следуют своим желаниям, и ничему другому. Разве это не так?»
«Среди правителей много диктаторов».
«Вы это о чем?»
«О желаниях, которые «правят».
«Не придирайтесь к словам!» – разозлился он и пробормотал в оправдание:
«Терпеть этого не могу».
Я и сам был раньше такой.
«А у вас, надо понимать, желаний нет, у вас только – миссия, верно?» – по своему обыкновению перескочил Фомин на меня.
«Желания – часть мозговой активности».
«Но вы им, надо понимать, не следуете? Вы ведь это имеете на виду?» — спрашивал он обличающе.
«Я следую желаниям, которые говорят».
«Что – говорят?» — не понял Фомин.
«Одни желания кричат, другие говорят», — сказал я.
«А что вы делаете с теми, что кричат?»
«Жду, когда откричатся».
«Вы знаете, а у нас, простых смертных, все по-другому. Главная разница для нас, чьим желаниям следуешь: своим или чужим».
«Свое», «чужое» – это плохо видно.
«Ах, бросьте! – отмахнулся Фомин.
У палатки близнецов Зеведовых появился Свят. Он разговаривал с Ваней и наблюдал оттуда за мной. Теперь я мог оставить костер на сына и отправиться к людям, которые ждали меня на откосе. Я предложил Фомину:
«Останьтесь на ужин, поешьте нашей ухи, посидите с нами у костра. Может быть, это вам что-то напомнит.
«Что-то напомнит»? – переспросил он. – Что вы имеете в виду?»
«И обязательно искупайтесь», — добавил я.
Фомин насторожился.
«Уж не намекаете ли вы на другую реку – ту, что впадает в Мертвое море?»
«Боже упаси. Зачем думать о другой реке, если есть эта?»
Он усмехнулся и сказал:
«Оставаться мне здесь незачем. Я домой хочу – отключиться от всего, расслабиться, книжки почитать. Что-что, а уж библиотеку я собрал, все друзья завидуют. Я пришел только, чтобы проститься. Скажите мне что-нибудь на посошок. Ну, напутствие там какое-то».
«Раздайте свои книги», — сказал я.
Он сощурился, но не улыбнулся по своему обыкновению.
«Ну, раздам, а дальше что?» – спросил он.
«Блаженны неимущие, ибо им будет свобода».
В глазах Фомина мелькнул огонь. Он взял стоявшее у костра ведро с водой и демонстративно залил пламя, после чего вынул из кармана свою губную гармошку и, заиграв на ней, ушел.
13
Я не спорил с другими, но другие хотели спорить со мной. Чаще всего это были начитанные люди. Они много говорили о своих особенностях, но никогда не называли ту, которую назвал бы первой я: страсть спорить и равнодушие к общению. Им редко хотелось прикладывать разные представления друг к другу и спокойно разглядывать совпадения со стороны. Совпадения интересовали их гораздо меньше, чем отличия. Им хотелось схватки и победы в ней.
Когда начитанные люди меня спрашивали, что здесь у нас, на Рыбацком пляже, за религия, и я отвечал: «просто религия», они на меня обижались. То, что называли религией они, я называл культом, а то, что называл религией я, они называли профанацией и самодеятельностью. Я им не возражал: ну конечно же, религия – самодеятельность, а всякий образ Бога – профанация.
Большинство из споривших со мной страдали комплексом определенности, потому что у них был воспален инстинкт самосохранения. Если они и знали самозабвение, то недостаточно, чтобы начать ценить неопределенность. Они стремились увидеть в бесконечности матрицу, а в вечности — замысел. Я не мог им в этом помочь. С их аналитическим мышлением они и сами были в состоянии прийти к заключению, что у бесконечности не может быть матрицы, а у вечности — замысла.
Начитанные люди называли меня эклектиком. Они говорили, что на моих представлениях ничего не построить, что за них даже не ухватиться. Но разве за свободу ухватиться? Разве ухватиться за душевный покой, за вдохновение, за блаженство?
Чтение вызывает мечты. Начитанные люди не бегали за безруким божком с глазами-монетками по имени Счастье — они по-другому мечтали о хорошей жизни. Простаки хотят богатство или успех, сложные личности — справедливость, искоренение зла, красоту.
Некоторые начитанные люди, приходившие на Рыбацкий пляж, называли себя христианами. Они недоумевали, когда христианином называл себя и я. Для них христианство было назиданием, а для меня — вдохновением, для них песней, а для меня симфонией, для них рекой, а для меня морем. Я говорил им: в христианство втекают и из христианства вытекают многие реки. Россия большая, и из одной реки всех не напоить.
Начитанные люди уверяли меня, что я плохо помню Евангелие. Когда я говорил им, что хорошо помню Иисуса, они смеялись. А я чувствовал Его в воздухе, что сотрясался от их смеха. 2000 лет назад это было наоборот: Иисус был плотен, а в воздухе был я.
Начитанные люди спрашивали меня, как я могу помнить Иисуса? Я говорил им: «Он в моей совести», а они говорили мне: «Что за чушь?! Совесть – это стыдливость, а не память». Я говорил им, что есть две памяти: малая память – память ума, и совесть – большая память. Они же думали, что память ума – большая, а совесть – это комок в сердце.
Начитанные люди знали, что нищие духом ближе Иисусу, чем они. Они думали, что нищие духом – это юродивые, и выражали свою растроганность христианской иерархией: сначала убогие, потом богатые. Я говорил им, что иерархии – не от Иисуса. Я говорил им, что нищие духом – это те, кто не нагружен святынями, кто не копит их, не бережет, не тащит на себе. Я говорил им: не берите себе больше святынь, чем можете нести, не согнувшись.
Начитанные люди не знали, что значит идти налегке. Их головы были тяжелыми, и они подолгу задерживались то там, то здесь, увязая в грязи жизни. Их всегда мучил голод, и они думали, что пищи не хватает их душе, но ее требовал их ум. Он требовал очень много пищи, а христианство — нищая религия. Им досталось по наследству от предков духовное учение, где самое главное выглядело простодушно-житейским увещеванием: возлюби ближнего, как самого себя.
Я говорил им: «Религия – это выход на простор. Религия — это самозабвение. Ничто не подводит к самозабвению так напрямик, как любовь к ближнему. Потому это и есть начало начал: возлюбить ближнего. Это духовный путь без эзотерических книг, самосовершенствование без методик, просветление без уединения».
Тем, кто заявлял, что любовь к ближнему невозможна, если тебе самому плохо, я говорил, что невозможно другое: чтобы тебе всегда было хорошо. Любовь к ближнему – это освобождение от мечты о «хорошем», это состояние, когда ничего для себя не надо, даже «хорошего».
Начитанным людям всегда не хватало свободы. Они любили говорить, что свобода для них – самое главное. Но если бы это действительно было так, они бы были свободны. Те, кто говорил, что готовы отдать за свободу все, прямо называли ее цену. Они бы были свободны первыми, если бы делали, что говорили. Но они торговались, ожидали скидку, мечтали получить свободу бесплатно. Но если и можно что-то получить бесплатно, то это не свободу, и получаешь ее ровно столько, сколько за нее отдаешь.
Хотите свободы – полюбите расставания. Расставайтесь с вещами и деньгами. Расставайтесь с воспоминаниями. Расставайтесь с желаниями, мыслями, идеями, святынями, амулетами. Расставайтесь с своими мечтами.
Первым делом расстаньтесь с мечтой о ближнем, кому вы должны быть дороже всех. Кто всегда будет рядом, всегда наготове. Кто не станет спать, коли у вас бессонница, кто не пойдет на тот праздник, куда вас не позвали, кто всегда смеется, если вы смеетесь, кто всегда обнимет, если вы в тоске, кто всегда отдаст вам последнюю рубашку, последний кусок хлеба, последнюю копейку. Расстаньтесь с мечтой о «всегда», и тогда освободитесь.
Давайте, отдавайте, раздавайте — и тогда освободитесь.
Давайте время, давайте деньги, давайте знание, давайте вещи, не думая, стоит ли.
Если надо выбрать, отдать что-то другому или взять себе, выбирайте, не думая, — отдать. Ибо свобода приходит через эту дверь, а не через ту.
Всякому, кто соглашался со мной, но мялся, я говорил:
Если ты не привык давать, если ты привык думать, что давать – это терять, если ты привык давать только тогда, когда вынужден, то знай: начать давать добровольно – это все равно что идти плавать в холодной воде. Ступишь в нее, и сводит ногу, как же тогда окунуться в нее с головой? Скажу тебе, раздумывающему: ступи в эту холодную воду еще раз, и еще раз, и еще раз, и еще раз – и перестанет сводить ноги. Сделай шаг побольше, чтобы вода дошла до щиколотки, потом еще один, чтобы она омочила колени. Хочешь – входи в нее шаг за шагом, хочешь – прыгни в нее и поплыви. И будет тебе блаженство.
14
Молва о сходах на Рыбацком пляже расходилась все дальше. Увидеть меня и поучаствовать в разговорах у костра приезжали теперь не только люди из Рязани, но и из Тулы, Тамбова и Воронежа. Многие из них изъявляли желание «вступить в Кобщество». Не всем нравилось, что для этого не требовалось ни клятвы, ни присяги, ни пожертвования: хочешь войти в Кобщество и входи, хочешь остаться в нем и оставайся. Главным было общение, оно и соединяло. Когда люди стали приходить на Рыбацкий пляж в любую погоду, Петр привез из Лобова большую брезентовую палатку и свечи, которые должны были заменить в ней костер в дождливые дни.
Каждый, кто приходил на Рыбацкий пляж, был для меня “случайным встречным” и становился мне дорог. Но “случайными встречными” я называл вслух только тех, кто ценил Случай так же, как я. Тех, кто хотел слышать «друг» я называл друзьями. Я был семантик и считался с тем, что сознание кроме всего прочего – контекст. Если чей-то контекст отторгал какое-то слово, или сжимал его, или перекрашивал, или сажал в клетку, я больше его не произносил.
Раз Андрей признался мне, что его передергивает всякий раз, когда я называюсь “реалистом”. Слово «реальность», сказал он, стало дырявым, и ему не донести до других значения, которые я в него вкладываю: влетая в головы других, оно наполняется имеющимся там содержанием. Я перестал тогда называть себя реалистом – только семантиком, а реальность стал чаще называть пространством, что в сущности ничего не меняло. Реальность и есть пространство — только пространство существует безотносительно, только оно вечно и бесконечно. Я был готов отказаться от всякого слова, увеличивавшего путаницу. Недоразумений и непонимания было и так много, очень много.
У края откоса, прямо над Рыбацким пляжем, стояли рядышком две сосны. Я любил сидеть там и смотреть на реку. Ко мне стали присоединяться люди, которым надо было поговорить со мной наедине. Их становилось все больше.
Я мог видеть с откоса, как мой сын разжигает костер. Это происходило в одно и то же время, за два часа до ужина. Поварами были обычно близнецы Зеведовы. Варили на Рыбацком пляже всегда уху. Когда она была готова, все собирались у костра.
Прошло какое-то время, и Ваня предложил всякий раз после ужина символически сжигать на костре мечты, делая это по очереди, друг за другом. Андрей сказал, что было бы хорошо перед разговором у костра проводить медитацию, чтобы настрой на него был чище. А Яша однажды заявил, что сходы надо начинать с ритуала «освежения водой», потому что народ привык к водке в компании, и каждый будет о ней думать, если сухой закон держать без альтернативы. И другим хотелось чего-то еще, помимо стихийного общения у огня, чего-то твердого: фундамента, каркаса, столба, ограды, — необязательность была им очень уж непривычна.
Но всякий раз, когда кто-то пытался что-то организовать, меня одолевала лень. Я уходил тогда в лес, и там в меня возвращалась свежесть. Голосу ничего не требовалось, кроме места, и место уже было. Всякое добавление к этому исходило из страха свободы. Каждый, кто хотел свободы, должен был продрогнуть от ее холода, отдрожать от ее сквозняков, отболеть ее лихорадкой. Только после этого пропадал страх перед ней и безмерностью пространства. Только тогда радость религии становилась ровной.
15
На сходах я сидел обычно с закрытыми глазами, слушая происходящее. Голоса людей, сидевших у костра, писк комаров, которых влекла их кровь, треск горящих веток, трели птиц, шорохи, шуршание, неизвестно чьи вздохи, масса других звуков, которым не было названия, сливались в одну симфонию, но сливались не полностью и не навсегда, как и все во вселенной. Цельность жизни открывается слуху полнее, чем зрению, скользящему по поверхности форм.
Кто сколько звуков слышит в симфонии, раздающейся рядом, не так важно. Гораздо важнее – то пространственное ощущение, которое дает слух. Это ощущение знает душа, жившая когда-то там, где высокое и низкое – равноценно, где нет устойчивости, где отдельность ничто иное, как подъем волны.
Я не смог бы доверять своему зрению так, как доверял своему слуху. Если бы Господь открывался мне не в Голосе, а в видениях, я сомневался бы несравненно больше в качестве своего восприятия, ибо взгляд запеленен. Вслушивание стало моим обычным состоянием. На Рыбацком пляже люди привыкли меня видеть сидящим с закрытыми глазами, даже если рядом был собеседник.
Если меня не спрашивали, я говорил на сходах только тогда, когда хотел раздаться Голос. Я узнавал его по особому, ни на что не похожему напряжению в горле, от которого мгновенно пропадали мои мысли и замедлялось дыхание. Я становился только слух. Голос давал себя услышать в разных ситуациях, в унисон с симфонией момента, или нет.
Иногда звучание Голоса прорезало происходящее, как нож оберточную бумагу. Искать в его проявлениях причинно-следственную связь не имело смысла: ее не могло быть. Если бы я ее обнаружил, я бы усомнился, что слышал Голос, а не что-то еще. Стихийность была как раз его отличительным признаком, ибо он приходил из той части пространства, где не было времени, а значит – закономерностей, которые мы можем постичь. Там была полная свобода – немыслимая, невероятная, невозможная для человека, эхо которой раздается, когда в ход событий вмешивается Случай. Только тот станет свободен, кто не страшится Случая. Кто готов принять все, что он ему принесет. В том числе и боль.
Раз я сказал, что если внутри горит, то это не в душе, а в сердце. Потому что в душе нет ничего, что может гореть, и сама она не горит. Что же тогда горит в сердце, спросили меня. Желания и обиды, ответил я. И еще я сказал, что огонь в сердце бывает разного цвета, но только не белого. Чаще всего это красный и черный огонь.
Мало кто меня тогда понял. Посыпалось: как? почему? зачем? Бывает, что люди толкаются вокруг забора, потому что пытаются и не могут перелезть через него. А у забора есть калитка, но они не видят ее. Они не видят калитку, потому что думают о том, как перелезть через забор. И пока их ум этим занят, им не увидеть калитку. Что требуется, это взглянуть на забор с другого места, — и уж обязательно оттуда, куда тебя отпихнет сосед. На сходах это и происходило.
Об огне в сердце спросил меня тогда и Свят:
«Если я не хочу видеть его, а вижу, как избавиться от этого?»
«Что тебя пугает?» – спросил я.
Сын пожал плечами.
«Это надо тоже видеть», — сказал я ему.
«А если я не хочу видеть и это, что тогда?»
Его взгляд проколол меня насквозь.
«Но ведь еще больше ты не хочешь сгореть, верно? » — спросил я.
Свят отвернулся от меня к костру и стал безучастным. Так все узнали о его огне.
А Яша тогда спросил:
«Про топливо ты сказал, а огонь-то откуда берется?»
Я вынул зажигалку, с которой не расставался, щелкнул ею, придержал пламя и дал ему исчезнуть.
«Внутри все сложнее,» – сказал на это Яша.
«Горение есть горение. Русский человек чуток к огню. Если в ком вспыхнул красный огонь, мы говорим «он загорелся желанием», если в ком тлеет черный огонь, мы говорим «он горюет» или «у него горе».»
«Ах, всегда эта семантика», — пробормотал Яша и отвел от меня взгляд, пряча то, что появилось в его глазах.
После того схода Яша заговорил со мной опять, уже наедине.
«Как ты относишься к дракам?» – спросил он.
«Спокойно».
«Значит, ты не против драк?»
«Разве всегда есть выбор?»
«А если в драке кого-то убьют, тогда ты как?»
«Это горе».
«А если убьют сволочь?»
«И тогда это горе».
«А если убил тот, кто защищался? Даже не сам защищался, а защищал другого?»
«И тогда это горе».
«Тогда-то – почему?»
«Если в лесу, что за нами, начнется пожар, будет для тебя разница, какое дерево загорелось первым – гнилое или здоровое?».
«Да из-за того гада никого не колышит! Какой из-за него пожар!» – воскликнул Яша.
«И убийцу не колышет? Убийство соединяет судьбы.»
«Не называй того, кто защищался, убийцей!» – вскричал Яша.
«Дай мне тогда другое слово».
Но другого названия для того, кто убил, в нашем языке не нашлось, как и не было другого названия для убийства.
«Ах, да я все это не всерьез», – сказал Яша и закашлялся, словно глотнул дыма. Когда кашель прошел, он добавил:
«Я просто вспомнил один фильм”.
Я промолчал. Яша оставался сидеть рядом, и скоро заговорил вновь:
“Там, ну, то есть, в том фильме, хороший парень нечаянно прикончил подонка и потом не знал, что ему делать. Он все своих друзей пытал, как бы они поступили на его месте, но те его только еще больше запутывали. Официально того парня объявили в розыск, но на практике никто его не искал, милиции других дел хватало. И правда: что ему было делать? Не идти же, как барану, самому в милицию? Как ты думаешь?”
«Я знаю, что не надо делать. Не надо спрашивать других, что делать тебе».
«Но если не знаешь ответа сам?!»
«Твой вопрос – твой ответ. Ответ сидит в темноте вопроса. Если входишь в вопрос, как в туннель, и проходишь через него, найдешь в нем ответ», — сказал я Яше.
«Я уже был в том туннеле и ничего там не нашел», — произнес он сквозь зубы.
«А из какого его конца ты вышел?» — спросил я. На это Яша не обратил внимания.
«Есть очень длинные туннели. Идешь по ним годами», — предупредил я его.
16
Однажды среди нас появился брат Антоний. Он признался нам:
«Я тоже слышу Голос.»
«Как он тебя называет?» — спросил я его.
«Монашек, — ответил брат Антоний ласково. И мы стали его называть так же. Он не возражал.
Монашек был уверен, что у Бога много собеседников, и Он общается с каждым по его или ее разумению. Я тоже думал так.
Км в 20 от районного центра Лобова находился Преображенский монастырь. Монашек провел в нем восемь лет. В марте он оставил свою обитель. Это произошло однажды перед утреней. Брат Антоний отправился из кельи в храм, но не дошел до него, потому что его ноги сами двинулись к воротам. Выйдя за них, он услышал Голос, который сказал ему, куда идти дальше. С тех пор Монашек скитался. Голос продолжал указывать ему путь, и так он оказался на Рыбацком пляже.
«Это не бас, не тенор, ни какой другой голос, как у людей. Это бесшумный, чистый голос. Он раздается в затылке и говорит очень внятно – каждое слово как бусина,” — рассказывал Монашек кобществу.
«А может, это бес тебя дразнит?» – спросил Петр.
Монашек улыбнулся ему, как ребенку, и заверил:
«Это не бес. Бесов я тоже слышал, было раньше и такое. Знаешь, в чем разница? Бес не может говорить спокойно. Даже если спокойно начнет, подражая ангелам, потом все равно собьется на свою чечетку. Он говорит, как чечетку отбивает. И еще его тянет на кровь. Бес норовит в человечью кровь всосаться. А Господь с ангелами кровь нашу никогда не тронут. Если они нам что внушают, то через воздух. Мы их внушение вдыхаем».
Настоятелем Преображенского монастыря был отец Александр. В Лобовском районе он стал заметной фигурой. Вся местная знать окормлялась у него. Выбор здесь был небольшой, и лобовские богачи с правителями сразу отдали предпочтение игумену Александру, строгому и представительному пастырю, физически удаленному от простого люда. Те, кто не имел машины, могли добраться до него с большим трудом. Преображенский монастырь находился в семи км от конечной остановки автобуса, ходившего из Лобова.
Каждое воскресное утро проселок, отходивший от шоссе к Преображенскому монастырю, заполняли иномарки, среди которых выделялся лимузин самого богатого человека в городе, владельца коммерческой фирмы «Вече» — Николая Велкина. Двигались медленно, колонной. Дорога ограничивала скорость и не позволяла обгон, тем самым уравнивая всех, кто ехал на обедню. Через два часа колонна двигалась обратно туда, где равенства не было и быть не могло, а скорость движения на всех дорогах, будь то жизненный путь, будь то шоссе, определял размер собственности.
Велкин больше других заботился о благоустройстве Преображенского монастыря. Это он оплатил листовое золото для куполов монастырского собора. Когда они заблестели, ноги Монашка повернули от храма к воротам.
«Велкин – мафия, а отец Александр взял у него деньги для собора. Моя душа туда больше не хочет. Храмы должны быть чистыми, особенно если вокруг помойка”, — объяснил нам свой уход из монастыря Монашек и спросил меня:
«Ты принял бы деньги у вора?»
«Принял бы для обворованных».
«Но не на храм, верно?»
Я согласился с Монашком, что храмы соединяют причастных к ним людей, и среди них не должно быть воров. Он был рад найти у меня понимание и остался с нами. Андрей вычистил для брата Антония трюм катера, Петр привез ему из Лобова матрац, и у Монашка появилось гнездо на Рыбацком пляже.
«Только я как птица: все время в гнезде сидеть не буду, — предупредил он. – Мне с вами хорошо, но я чувствительный, подвижный, мне разговоров мало».
Больше всего Монашку не хватало у нас храмового богослужения. Он уходил в Лобов, а бывало — и дальше, чтобы присутствовать на церковных службах, встречаться с иконами, а главное – причащаться. Без этого он не мог. Он ходил в те храмы, где его не знали, и старался не примелькаться, чтобы в нем не определили беглого монаха из Преображенского монастыря. По той же причине он там нигде не исповедывался и мучился из-за этого.
Раз, сидя ранним утром у реки, он услышал в затылке:
«Встань, зайди в воду по грудь, перекрестись и окунись с головой. Покайся и дай реке унести твои грехи прочь. Будешь идти обратно на берег, пой «аллилуйю». Очищаяся так каждый раз, когда в сердце наберется скверна».
Монашек сделал все так, как ему было велено, а вечером, на сходе рассказал нам о случившемся. Совершать такие омовения вошло потом в его привычку. Иногда к нему присоединялись другие, в том числе и я. Отсюда пошла молва, что я крещу людей на свой лад и делаю это «по-сатанински». Так о кобществе заговорили как о «секте сатанистов».
Некоторые из тех, кто сидел у нашего костра, рассказывали потом, что поверили в Бога. Те, кто не называли меня сатанистом, стали называть меня старцем. В один прекрасный день Рыбацкий пляж посетил человек, который во всеуслышание объявил, что я – пророк. Поскольку кое-кто из участников сходов бросил пить, пошла также молва, что я целитель. Моя личность обрастала легендами, кобщество разрасталось, и это все больше и больше не нравилось Велкину, считавшему Лобовский район свой территорией. О физической расправе он, похоже, не помышлял: или он сам догадался, или ему кто-то разъяснил, что я не должен стать «мучеником». Ведь если меня убьют, легенды обо мне останутся на его территории навсегда. Велкин посылал на Рыбацкий пляж шпионов и размышлял о том, как будет лучше всего от меня избавиться.
17
Во времена, когда Кобщество разрослось, на Рыбацком пляже собирались несколько десятков человек. Я не помню, чтобы тогда туда заплывали посторонние рыбаки. Они, как и мы, искали уединения и находили другое место, где можно было поставить палатку. Но однажды вышло иначе. Раз вечером, когда начинало темнеть, к Рыбацкому пляжу причалила яхта, и с нее сошли на берег четверо: черные ангелы.
Появление чужих поразило кобщество, и разговор свернулся. Только Андрей, по привычке сопротивлявшийся обстоятельствам, продолжал еще говорить, словно не происходило ничего особенного. А особенное на самом деле происходило — в десяти метрах от нас выгружались вещи: палатки, спальные мешки, утварь. Дошла очередь до магнитофона, и скоро Рыбацкий пляж захлеснули рев, грохот, скрежет, свист, уханье, стук, завыванье и вопли, производимые какой-то рок-группой. Четверо наших соседей, коренастых тяжеловесов, всем своим поведением выражали намерение делать то, что им хотелось, без ограничений.
Я встал и начал двигаться на месте в такт звукам, бившим по моим перепонкам. Я принимал их, как принимал боль, когда она была неизбежна. Мои движения становились все резче, все грубее, и пока я еще замечал окружавших меня людей, я видел, что теперь их внимание переключилось на меня. Потом я перестал их видеть. Я ощущал только энергию. То же самое, наверное, чувствовал бы вулкан в момент извержения, если б мог что-то чувствовать, или атом при расщиплении своего ядра. Эту энергию умеют извлекать из себя шаманы, и пользуются они тем же средством: полной самоотдачей ритму.
Я не думал о шаманах, отдавшись звукам наших соседей – эта параллель увиделась мне уже потом, а тогда – я участвовал в Случае. Я вышел из себя, как выходят из поезда, и вошел в Случай, как входят в город, куда приехал.
Нравятся тебе, или нет улицы в незнакомом городе, ты идешь по ним, а не прокладываешь новые, а если жители этого города говорят на непонятном тебе языке, ты учишь их язык, а не требуешь от них, чтобы они учили твой. Точно так же я поступал в обстоятельствах, в которых оказывался по воле Случая: я смирялся с тем, что происходило. Форма смирения возникала сама собой. Я ощущал себя на всяком месте волной среди волн, которыми расширялось и сужалось пространство, как расширяется и сужается грудная клетка.
Так ли меня поняли мои друзья, когда я у них на глазах вошел в какофонию, раздавшуюся на Рыбацком пляже, не знаю, но они последовали моему примеру. Кто исступленно затрясся, кто заскакал, кто отдался вращению или принялся бегать по косе, как заведенный. Как я услышал от них потом, их крики и вопли заглушили рок-группу. Теперь уже черные ангелы замерли. Святослав побежал к ним, чтобы познакомиться, но они его неверно поняли. Возникла драка.
Один из тяжеловесов бросился на меня. Я не почувствовал боль от удара. Я даже не заметил, что получил его. Как мне потом рассказали, тот парень ударил меня в скулу. Ко мне бросился Петр, но прежде чем он оказался рядом, я получил второй удар, опять же в скулу, но уже в другую. Тогда ко мне вернулась чувствительность, и я впервые посмотрел в глаза тому, кто меня возненавидел, он же отшатнулся. Между нами втиснулся Петр, и черный ангел, напавший на меня, бросился к своим, в центр потасовки.
Дело кончилось тем, что четверка стала загружать свои вещи обратно на яхту. Наши гости были не вооружены, и потому только выкрикивали ругательства, а когда отплыли от берега, надавили на гудок. Они давили на него до тех пор, пока Рыбацкий пляж не скрылся у них из виду.
После того как на косу вернулась тишина, Кобщество раскололось: кто улегся на песок, кто ушел спать к себе, кто остался для разговоров, кто отправился купаться. Святослав еле стоял на ногах.
«Отец, когда у тебя срабатывает чувство юмора, ты впечатляешь», — похвалил он меня.
Юмор – приятный способ смирения, подумал я. Раньше это не приходило мне в голову. Я обнял сына и почувствовал, как осело его тело. Я хотел взять его на руки и отнести к нам в шалаш, но он не позволил. «Опять ты со мной, как с ребенком. Я сам», — сказал он, зажмурившись еще сильнее, и лег на землю. «Ты иди, я приду», — отослал он меня от себя прочь.
18
Мы со Святом обычно спали в нашем шалаше до рассвета и на заре уходили вместе далеко вглубь леса , где не бывало людей. Там я подолгу лежал на земле, как ее ком, и что бы в природе ни происходило — был ли дождь, ветер, солнцепек или гроза, я чувстововал только покой. Мой сын следовал моему примеру. Первым поднимался на ноги обычно я, но вот пришел день, когда я открыл глаза и увидел Святослава в стороне от себя. Он подтягивался на суку соседнего дерева. За тем же занятием я застал его и на следующий день, а еще через два дня он меня спросил:
“Ты не против, если я иногда буду оставаться утром в шалаше?»
Он волновался, но это было не из-за ожидания моего ответа, его он знал — Свята тревожило его желание. И потому, услышав мое разрешение, он не стал спокойнее. То, что жгло его, что отчуждало его от меня, что выталкивало из покоя, осталось с ним. С тех пор я уходил в лес по утрам один. И с тех пор Святослав перестал петь свои песни на мои слова. Он решил сам писать слова для своих песен и попросил Петра привезти для него из Лобова блокнот. А потом он сделал себе свой шалаш.
Раз вечером, во время схода, мы услышали на откосе грохот мотоциклов, а когда моторы стихли, до нас донеслись оттуда мужские и женские голоса. Прошло какое-то время, и мотоциклисты со своими подругами спустились с откоса на Рыбацкий пляж. Их было пятеро: трое мужчин и две женщины. Они направились прямо к нашему костру. Мужчины уселись в заднем ряду, женщины же протиснулись вперед и устроились напротив меня.
Поведение пришельцев вызвало у кобщества возмущение. Одна из женщин стала оправдываться, другая же, яркая, дерзкая, не обращала на неудовольствия внимания. Ее звали Ольга. Направив свой взгляд мне прямо в глаза, она его с меня больше не спускала.
Вдруг Ольга встала по-кошачьи, на четвереньки, и со смехом обратилась ко мне:
«Отец, изгони из меня бесов!»
Розовая в отсвете костра, хмельная, она глядела на меня с превосходством женщины, умеющей помыкать мужчинами. Ее подруга опустила голову, предвкушая спектакль и боясь его. Я ничего не говорил и не двигался, только смотрел на ту, что требовала меня.
Со стороны можно было подумать, что мы с Ольгой состязались, кто кого переглядит. Мы были в неравных положениях: я сидел, а Ольга вынуждена была удерживаться в неудобной позе. Не прошло и пяти минут, как она подняла руки с земли, села на пятки и рассмеялась.
«Надо же, а мои бесы и правда куда-то удрали!» — громко объявила она, после чего победно обвела присутствоваших взглядом и спросила:
«Куда они, интересно, делись? Уж не в вас ли забрались?»
Я оценил ее ум. Мало кто из проигравших догадывается, что может разделить выигрыш своего противника, перескочив на его сторону. Но кобщество возмутилось еще больше.
Насладившись шумом, который она подняла, Ольга придвинулась ко мне вплотную и шепнула в ухо: «Мне надо поговорить с тобой наедине».
«Приходи завтра перед ужином», — сказал я ей.
«Мне надо это сейчас. Кончай здесь поскорее и приходи ко мне. Мы разбили свой лагерь наверху, прямо у откоса. Моя палатка круглая. Я буду тебя там ждать».
Сказав это, Ольга встала, дала знак своим друзьям, и они ушли.
Эта женщина была уверена, что я приду к ней. Так делали все мужчины, которых она выбирала.
Привыкшая к победам, Ольга не перенесла разочарования и решила отомстить мне за несостоявшуюся встречу. Утром, когда меня не было на Рыбацком пляже, она нашла Святослава и увела его к себе. Он остался у нее не только на весь день, но и на ночь.
Мой сын вернулся от Ольги следующим утром и был удивлен увидеть меня у ясеня, где стоял мой шалаш: он рассчитывал, что я уже ушел в лес. Свят не хотел попасть мне на глаза с отпечатками той ночи. Опаленный, с помутневшими глазами, он стоял передо мной на слабых ногах и кусал свои искусанные губы, не зная, как их спрятать. И еще он хотел спрятать усладу, которая шатала его тело, становившееся от нее то легким, то тяжелым.
«Я больше туда не пойду!» — объявил он спешно.
«Это море не обойти, — сказал я сыну и одновременно — себе. — Его надо переплыть. Плохо то, что у тебя еще не готова лодка».
Он понял меня и усмехнулся.
«Что теперь поделаешь! Я уже плыву».
Я хотел обнять сына, но он увернулся. Затем он взглянул на меня без своего прищура, огромными, почерневшими глазами и произнес:
«Дай мне свою лодку!»
Эти его глаза… Я еще не успел в них вглядеться, как они снова сузились, и Свят рассмеялся.
“Я же шучу. Ты что, не понимаешь? У меня настроение хорошее!”
Он хлопнул меня по плечу и пошел спать в свой шалаш.
Уже в тот же день Свят забыл о нашем разговоре. Та, что искусала его губы, имела теперь власть над его кровью. Там остался ее зов, который то затихал, то раздавался с полной силой. Когда этот зов слабел, мой сын тянулся ко мне, когда же его кровь гремела, он бежал от меня к Ольге. О “лодке” он больше не думал.
19
Среди тех, кто собирался у костра, была Марина. Появившись в Кобществе, она сначала вела себя нервно: то сидела как каменная, то ерзала на месте, слушая других, и чаще читала любимые стихи, чем говорила о себе.
Марина появлялась на сходах через раз. Она жила в поселке Магдалино и добиралась на Рыбацкий пляж оттуда пешком: пять часов сюда и пять часов обратно. Это был тот же путь, что проделали мы со Святом, сойдя с поезда. Глядя на худую, мрачную Марину, многие удивлялись, как она выдерживает такие переходы? Почему не ездит автобусом из Магдалино хотя бы до Абурино? Марина говорила, что любит ходить, но ей не верили.
Раз она пришла на Рыбацкий пляж с палаткой и объявила, что остается с нами. С тех пор она с Рыбацкого пляжа уже никуда не уходила, и потому мы удивились, когда однажды на ужине ее не обнаружилось.
Марина появилась позже, когда костер уже догорал, и села сзади меня. После схода я дал Святу знак идти спать без меня. Когда мы с Мариной остались у пепелища вдвоем, она, продолжая сидеть у меня за спиной, спросила:
«Что ты делаешь, когда боль становится невыносимой?»
Невыносимая боль мне еще не выпадала, но я знал, как свою, невыносимую боль другого.
«А около девятого часа возопил Иисус громким голосом: Или, Или! Лама савахфани? То есть: Боже Мой, Боже Мой! Для чего ты меня оставил?»
Это был мой ответ на ее вопрос, и когда я снова услышал голос Марины, то понял, что разочаровал ее.
«Евангелие я тоже знаю», — сказала она и, помолчав, добавила: «Поразительно все-таки, что Иисус «возопил». Не стонал, хотя бы, а «возопил» и просил милости. Такое бессилие… И это если учесть, что среди людей находились герои, которые выдерживали пытки, стиснув зубы. Подпольщики, например, попавшие в гестапо».
«Да, Иисус не герой, — согласился я. — Он мессия».
Марина поднялась.
«Ну я пошла,» — объявила она отчужденно.
«А зачем стискивать зубы, если боль невыносима?» – спросил я.
«Чтобы всякая сволочь не думала, что она сильнее других», — отчеканила Марина.
«Но черные ангелы могут быть сильнее других», — сказал я.
«Какие черные ангелы?» – спросила Марина упавшим голосом — мои слова обдали ее ужасом.
«Так я называю людей, которых жжет черный огонь.»
«А кого ты тогда называешь белыми ангелами?» — спросила она.
«Никого. Я не вижу белых фигур – только черные, серые и пятнистые. Белое не остается нетронутым среди черного».
«Господи, как же страшно жить!» — прошептала Марина.
«Все пьют из одной чаши», — сказал я.
«Но кто-то глотает из нее меньше, кто-то больше, а некоторые – захлебываются! Где справедливость?!» – вскричала она.
«Чаша не знает справедливости. И черные ангелы – тоже».
Я рассказал Марине о случившемся со мной этой весной, вскоре после того, как мой сын стал петь на улицах. Раз он вернулся домой с Новым Заветом, который кто-то положил ему в чехол гитары вместо денег. Открыв ту книгу на случайной странице, Свят прочел мне строку, на которую упал его взгляд:
«А около девятого часа возопил Иисус громким голосом: Или, Или! Лама савахфани?»
У меня тогда померкло в глазах, и я увидел огромную, как тучу, чашу, висящую в воздухе, которая накренялась к земле то тем то другим краем без всякой последовательности. Потом я увидел гору, по которой стелился черный огонь, а на ней — черный крест в белесом свечении. Было темно, как вечером.
Вдруг у подножия креста стали проступать какие-то темные сгустки, и я подумал сначала, что это черные ангелы. Почему я назвал их “ангелами”, я не знаю – это получилось само собой. Скоро воздух начал светлеть, а белесое свечение у креста – сжиматься и сгущаться, принимая очертания птицы с развернутыми крыльями. Когда то свечение уплотнилось еще больше, оказалось, что я смотрел на Сына Божьего, распятого на том кресте. Все вокруг изменилось в облике и цвете, кроме креста: он единственный оставался черным.
Те, кто увиделись мне ангелами, оказались людьми, но мысленно я продолжал называть их «черными ангелами». Они толпились у креста, возвышавшегося над их головами, они были везде, где я прежде видел черный огонь.
Я словно парил над своим видением, и все та же картина представала передо мной под разными углами зрения и в меняющимся освещении. Только крест был четок — знак ограниченности всего и вся, только он всегда оставался черным. В какой-то момент окрестности горы откатились к горизонту, и передо мной предстала вся земля. И везде по ней стелился черный огонь, и везде над ней висела чаша-туча, и везде летали брызги из нее — капли питья, которое пахло кровью.
Как бы картина ни преображалась, в центре ее всегда возвышался крест, то пустой, то с распятым на нем Сыном Божьим, который кричал: «Или, Или! Лама савахфани?» И всякий раз, когда я слышал Его крик, меня лихорадило: во мне разгорался мой последний страх — мой черный огонь.
После того, как я стал слышать Голос, все мои страхи погасли, кроме этого: страха быть оставленным. И вот теперь мне являлся сын, оставленный отцом, еще страшнее – Сын Божий, оставленный Богом, и это могло значить только одно: от одиночества и беспомощности не избавиться никому. Но только я решил, что понял свое видение, как увидел того, кого звал Сын Божий: Отец был за Его спиной. Там же был и Святой Дух.
И тогда видение изменилось в своем значении. Теперь оно значило другое: от чувства одиночества не избавиться никому, одиночества же – нет.
Все это я рассказал Марине.
20
«Отчего же тогда это чувство одиночества?” – спросила Марина. – “И почему от него не избавиться?» Она поднялась со своего места и теперь стояла передо мной, колко глядя мне прямо в глаза.
«Потому что не избавиться от сужения взгляда, от сжатия сердца, от перепадов энергии».
«И от боли не избавиться», — еле слышно сказала она, думая о своем.
«И боль будет вспыхивать»
«Вспыхивать?! — вскричала Марина. – Вспыхивать – это ладно. А если она все время? И нет надежды от нее избавиться?»
«Надежда – другая крайность.»
«Ты о чем?» — спросила Марина, сжавшись еще больше.
«О зрении. Я все время только о зрении. Страх делает близоруким, надежда – дальнозорким».
Тут я увидел, что лицо у Марины потемнело, а ее глаза зажглись.
«Не говори со мной так!» – прорычала она. Такого голоса у нее я еще не слышал. — «Разве ты не видишь, что творится у меня в душе?!»
«У тебя в душе так же тихо, как и у меня. У тебя горит в сердце», — сказал я.
«Неужели это так важно, где этот чертов огонь – в душе, в сердце, в печени или в костях?!» — спросила она с ненавистью.
«Важно видеть, что он не везде.»
«Когда боль невыносимая, ничего не видишь».
«Ты ее выносишь».
«Что ты знаешь о моей боли?!» – взорвалась Марина. Она опустилась на корточки и закрыла лицо ладонями. Какое-то время мы молчали. Потом Марина спросила:
«Что у тебя было с этими самыми «черными ангелами»?»
«Я это теперь плохо помню… — ответил я, одновременно вглядываясь в свое недавнее прошлое, где еще что-то угадывалось. — Пару раз отбирали у меня деньги, когда они у меня еще были. Раз пытались выбить зубы…»
«Это нелюди,» — произнесла она глухо.
«Это люди с обугленным сердцем.»
«У них нет сердца!» — крикнула Марина, после чего вскочила и пошла от меня прочь.
«У них сердце — уголь», — сказал я ей вслед.
Марина сделала еще несколько шагов и двинулась обратно к пепелищу. Не глядя на меня, она обошла меня стороной и вернулась на свое место у меня за спиной. Скоро я услышал ее всхлипывания. Я хотел повернуться к Марине, но она, схватив меня за плечи, остановила.
«Не надо, не смотри на меня…»
Потом она заговорила:
«Я потеряла мужа. Его убили у меня на глазах. Я любила его больше себя… Убили Диму полные отморозки… Мы шли в тот вечер домой от станции. Шли по проезжей дороге. Не было ни людей, ни машин. Вдруг появились они, на здоровой тачке. Остановились, принялись ко мне приставать. Дима стал меня защищать. Дальше драка. Трое забили Диму ногами, четвертый держал меня. От него, бугая, было не вырваться…”
Марина замолчала.
“А потом?” — спросила я.
“Они били Диму, даже когда он перестал двигаться. Били до тех пор, пока он не перестал дышать”.
“А потом?”
“Что – потом?!”
“Что было потом с тобой?”
“Господи, да какая разница!” — воскликнула она, сморщившись. Потом продолжила. — “То, что случилось с Димой, невозможно простить никому. Ни тем уродам, ни Богу. Если все происходит по воле Бога, то по его воле рождается и всякая мразь… »
«Ты говоришь о Боге, как о человеке».
«Те выродки не из наших мест. Я не запомнила номер их машины, и этих гадов никогда не поймают! – выкрикнула она, не слушая меня. “Один из них издевался над Димой! Он… он… »
Тут она рухнула наземь, зарыдала и стала бить кулаками по земле. Я повернулся к ней, но она, как-то это почувствовав, резко вскочила и пересела чуть дальше от меня. Ее не надо было трогать.
Прошло какое-то время, и Марина опять пересела ко мне. Она теперь снова сидела у меня за спиной.
“Почему это должно было произойти с нами? Вот что меня больше всего мучает: почему – с нами?!”
Опять этот проклятый вопрос. Я слышал его почти каждый день от людей, которые хотели со мной говорить. Они потому и хотели говорить со мной, что им выпадали несправедливости. Почему вообще выпадают несправедливости и откуда в мире столько зла, они еще как-то понимали, но они не могли понять, почему от этого должны были страдать именно они или их близкие.
А это и не понять. Есть беды, у которых есть причины, и есть беды, которые выпадают. Выпадают кому-то. Это можешь быть ты.
“Меня тоже мучил этот вопрос, — сказал я Марине. – Но раз я спросил себя: а почему это должно было случиться не со мной, раз не могло не случиться?! Не со мной, а с кем-то другим?”
Я услышал вздох Марины, протяжный, как стон. Потом какое-то время она сидела сзади меня неподвижно. Прошло еще сколько-то времени, и она уткнулась лицом в мою спину. Я мог слышать ее дыхание и скоро заметил, что она заснула. Долгое время ее сон был спокойным, но прямо перед рассветом она вдруг задышала прерывисто, а потом вскрикнула, отдернулась от меня и проснулась.
«Я увидела твоих черных ангелов», — сказала она мне, поднимаясь на ноги, после чего заспешила к себе в палатку. Она не выходила из своей палатки весь день, и что с ней там происходило, осталось неизвестным. Вечером, на сходе Марина рассказала свой сон:
«Мне сегодня приснился другой костер. Пламя билось, как на сильном ветру, и было черным. От него отрывались языки, и у них появлялись головы. Это были черные ангелы. Я поняла это, когда разглядела у них за спиной обломанные крылья. Все они были на одно лицо: одна щека дрожит от тика, другая – запала. Черных ангелов носило по воздуху, как мусор. Было жутко видеть их беспомощные барахтанья. Один из них налетел на меня и стал бить обломками своих крыльев. У него был свой ужас, у меня – свой. Но еще страшнее стало, когда я обнаружила у себя за спиной такие же обломки. Я тоже болталась в воздухе. Подо мной блестела вода, и каким-то ветром меня оторвало от ангела, бившего меня, и понесло к ней. Тогда меня охватила полная паника: страшнее всего мне было увидеть свое отражение в той воде…с обломанными крыльями…»
Ее голос звучал чисто, а спина, прежде согнутая, была прямой. Последующие дни, когда мы оказывались рядом, Марина смотрела в сторону. Раз наши взгляды неожиданно встретились, и тогда она мне улыбнулась как никогда светло, после чего опять замкнулась.
И хотя я знал, что бывает и такое, у меня все же сжалось сердце, когда я скоро увидел у костра прежнюю Марину: опущенные плечи, беспокойные глаза. Она просидела весь вечер молча, уставившись в огонь. Всякий раз, когда я направлял на нее взгляд, он от нее отскакивал. Я смотрел на Марину снова и снова, пока не услышал Голос: «Оставь ее!» А потом она ушла с Рыбацкого пляжа, ничего никому не сказав. Это мало кого озадачило – так поступали и другие.
21
Однажды, еще в то время, когда с нами была Марина, у нашего костра появилась пожилая женщина. Она пришла с внучкой, девочкой лет пяти. Женщина назвалась Людмилой. Высокая, статная, она могла бы выглядеть намного моложе, если бы этого хотела. Но она не скрывала седину и не красила губы. В простом платье, с пучком на затылке, она напомнила мне учительницу из какого-то советского фильма. Это сравнение лопнуло от взгляда, который Людмила бросила на меня – такого выражения глаз у советских учительниц я не видел. Это был взгляд мыслящей волчицы.
В тот вечер много говорил Андрей. Обращаясь к присутствовавшим, он называл их «братьями» — такая у него появилась привычка. Ни Марина, обычно сидевшая с нами, ни другие женщины, появлявшиеся на сходах, не обращали на это внимание. Слово «братья» имело для Андрея чувственное значение, и он произносил его на сентиментальной волне. На Рыбацком пляже такое не поощралось, но в его случае Кобщество было благосклонно. Благосклонной была какое-то время и Людмила, а потом сказала:
«И здесь братья не замечают сестер! Так вы проглядите мессию!»
Никто не ожидал такого выпада от непримечательной женщины, просидевшей до этого молча, в обнимку с внучкой. Андрей сбился с мысли и, переведя взгляд на меня, застыл. Притихли и другие, а Марина, наша преданная сестра, еще больше сжалась. С губ Людмилы спорхнула улыбка. Она тоже перевела взгляд на меня и произнесла:
«Если Господь еще раз захочет спасти этот мир, то Он пошлет Дочь».
Он пошлет и дочерей, сказал бы я. Он будет просылать многих, чтобы спасти этот мир. Единого мессии больше не будет. Разобщение рассыпало народы на новые племена, где родство определяют не хромосомы, а семантика. Разница понятий стала большей, чем разница языков, и мессия не может быть общим.
«Кто ты?» — спросил я Людмилу, как это всегда спрашивали меня.
«Какая разница? Я лучше расскажу о своей Праматери, – ответила она. — Многим из сидящих здесь рассказ о ней будет намного интереснее моей биографии, потому что он имеет к ним прямое отношение. Дело в том, что у Адама была не одна, а две подруги. Библия умалчивает, что Ева была сотворена не второй, а третьей. Когда Господь сотворил Адама, то оказалось, что первый человек слишком плотен и тяжел, из-за чего его все время одолевали то лень, то сон. Тогда Господь опять взял глину, добавил к ней больше огня, воды и воздуха, и сотворил праматерь Софию – легкую, быструю и остроумную. Он надеялся, что София будет приводить Адама в движение, но неуклюжий Адам возненавидел свою подругу, поскольку она во всем его превосходила, а это было для него невыносимо. Тогда Господь сотворил для Адама из его ребра Еву, а Софию переместил на другой край Эдема. Однажды ночью луна стала золотистой, с нее посыпались искры, и София стала танцевать в этом золотом дожде. Скоро после этого она родила трех дочерей и трех сыновей. Адам и Ева, как известно, были изгнаны из Эдема, а София и ее дети там остались. Так на земле возникло племя адамитов, а в Эдеме — племя софиитов. Софииты потом тоже оказалось на земле, но уже добровольно. Их привело сюда любопытство. Они не стремились где-то закрепиться и утвердиться – их притягивало неизвестное. Они не захватывали себе территорию, не группировались, не стремились к власти, и потому не воспринимались как другое племя. Потомков Софии было меньше, чем потомков Адама, и так это осталось навсегда. Рассыпанные среди адамитов, софииты начали и сами видеть себя их глазами – пустоцветами или гениями, в зависимости от своих удач или неудач. Я рассказываю это вам, потому что многие здесь – софииты. Потому вы и собрались здесь у костра. Потому вас и тянет к тому, что искрится: к огню, разговорам по душам, друг к другу».
Людмила повернулась ко мне и добавила:
«Вот ты спросил, кто я. Получается, что ваша сестра».
«Ну а так-то ты кто: работаешь где или пенсионерка?» — поинтересовался кто-то.
«Я устраиваю у себя дома вечера сестер-софииток».
«И много к тебе их приходит – этих твоих сестер? Да и кто они такие?»
» Это мои три дочери, четыре внучки, их и мои подруги».
«А чего же вы братьев не зовете?» – продолжался расспрос.
«Наши вечера открыты для всех, также и для братьев. Но они обходят нас стороной, потому что и наши братья отвыкли быть с сестрами на равных».
Кобщество, где всегда преобладали мужчины, не интересовал второстепенный в России «женский вопрос». Однако и у нашего костра всегда находились острословы, которые были не прочь попасовать его друг другу, как футбольный мяч. «Женский вопрос» для размашистых русских умов, сфокусированных на вселенную, — аттракцион: комната смеха, карусель, тир, бег наперегонки с мешками на ногах. Над феминизмом в России посмеиваются даже женщины, а в глубинке он воспринимается вообще как полная дурь.
«Нет, никакая я не феминистка, — решительно отказалась Людмила, когда ее так назвал Петр. – Для меня все женщины – сестры, а мужчины – братья».
«Младшие братья, наверное?» – съехидничал он.
«Это верно, — согласилась Людмила. – Младшие или ровесники. Я еще не знаю никого, в ком бы могла признать старшего брата. Мужчинам вообще труднее, чем женщинам, достичь зрелости».
Я слушал перепалку, прерывавшуюся смехом, и наблюдал за Людмилой. Кобщество не давало ей высказаться, как ей хотелось, но она относилась к этому спокойно: если кто-то что-то от этого терял, то это была не она, а ее собеседники. Я не вмешивался в происходящее. Я слушал Людмилу, рассказывавшую о своих ожиданиях Дочери, и старался понять, зачем она ей? Эта женщина знала сама все то, что надеялась услышать от другой женщины, но словно не хотела признать свою самодостаточность.
«Сестрам нужны свои святыни, которые давали бы им силу, особенно в поражениях, — говорила Людмила. – Женщина чаще мужчины сталкивается с насилием и чаще испытывает поражения. Вот вы, семантики, можете объяснить мне, почему стойкость называют мужеством и тогда, когда ее проявляет женщина?»
Последовавшие объяснения ее не удовлетворили, и она дала тогда свое:
«У нас под женственностью понимают привлекательность. Что такое настоящая женственность, не знают и сами женщины. Это изменится, когда придет Дочь».
«Ты так и не рассказала о себе, — сказал я. — Неужели ты хочешь остаться здесь тенью?»
«Раз тебя так интересует моя биография, вот тебе она. Я сирота, выросла в детдоме. Там двенадцать лет насиловали мою душу. Я убежала оттуда, но лучше не стало. Насилие было везде, и я испытала его в всех вариантах. Я видела, что другие привыкли к нему, а я не могла. Я везде чувствовала себя посторонней – и среди беспризорников, когда жила на улицах, и среди рабочих, когда батрачила на фабрике, и среди студентов, когда училась в университете, и среди коллег-адвокатов после университета. Теперь мне понятно, почему. Я действительно жила среди чужих, и не стоило было искать с ними родства. Это то, что я осознала спустя годы, когда мне открылась моя природа. Вот я смотрю на вас, и душе отрадно: как хорошо, что вы держитесь вместе. Мы, софииты, рассыпаны, как искры, по миру, но мы видны друг другу.»
Людмила прошлась взглядом по лицам и остановила его на Святе. Свят стушевался. Потом Людмила посмотрела на Марину, сидевшую рядом с моим сыном, и произнесла с ударением:
«А сестрам-софииткам я еще хочу сказать отдельно: не надейтесь на братьев, ведь они забыли больше, чем вы».
Марина опустила голову, как провинившаяся школьница.
«Зря ты!», — холодно сказала ей Людмила, после чего встала, подняла внучку, попрощалась с Кобществом и ушла.
Легенда о Софии взволновала многих. Кто-то спросил меня, а как эта легенда мне.
«Как сон после сна. Как обед после обеда. Как дождь после дождя», — сказал я.
После того схода, когда мы вернулись к себе на откос, Свят сказал мне:
«Дочь обязательно объявится”.
Он смотрел мне прямо в глаза, не торопясь, по своему обыкновению, отвести взгляд, он ждал моей реакции. Но я не реагировал. Тогда Свят вскипел.
“У баб больше власти над нами, чем наоборот, — заявил мой сын с грубостью, выдававший его растерянность и перед Ольгой, и перед Людмилой. — Пока еще мало кто из баб ею пользуются. Только поэтому лидеры – мужики. И мессии – тоже только поэтому”. Выполив все это, Свят перевел дыхание и добавил: “Такое не может продолжаться вечно”.
Это прозвучало, как вызов. Вызов лично мне.
Женщины через материнство чаще мужчин отдаются самозабвению и ближе подходят к религии. Но они и чаще мужчин слушают свое сердце, а в сердце черным огнем горит страх.
Сердце страшит Дух, который дышит, где хочет. Его приводит в дрожь его голос, который слышишь, но не знаешь, откуда он приходит и куда уходит. Простор, где громче раздается голос Духа, влечет душу, а не сердце. Сердце влечет храм, где раздается голос батюшки.
Храм – это крепость. Храм — это безопасность. Сердцу в храме хорошо. Это душа рвется на простор, а сердцу там зябко. Женщинам привычно следовать своему сердцу. Им привычно отдаваться самозабвению в укрытии, а не на просторе.
Я не спорил со Святом: это не может продолжаться вечно — что вообще продолжается вечно, кроме вечности? Дочери еще, вроде, не было, но что из этого? Дочь может объявиться в каждый момент.
22
Прошло еще несколько дней, и оказалось, что у Свята пропал интерес к сходам. Вместо него зажигать костер на Рыбацком пляже стали близнецы Зеведовы. Мой сын все больше пропадал у Ольги. Когда же мотоциклисты перебрались на другой пляж, в 5 км от нашего, он продолжал ходить к ней и туда.
Тот пляж был безымянным, и Ольга с друзьями назвали его Таити. Это была их мечта: жить на острове в теплом море, где каждый день — ярмарка, где каждую ночь — карнавал. Таити значил для них радостную свободу, без холода, без пустоты. Но как окажешься на Таити, не выезжая из окрестностей Лобова? Если замутнишь взгляд, окажешься, где хочешь.
У мотоциклистов были мутные глаза. Стали мутнеть глаза и у моего сына. Новые друзья научили его ездить на мотоцикле. Свята теперь завораживал грохот, и сводила с ума скорость.
Раз, оставив Рыбацкий пляж, Свят не появлялся здесь несколько дней. Он вернулся изнуренным. Приблизившись ко мне, сын положил мне на плечо свою руку – безвольную и пышащую жаром.
«Отец, я не знаю, что сказать, — признался он. – Я просто пришел. Пришел повидаться».
Я обнял сына и почувствовал,что он напрягся. Я снял с него руки , и он отступил от меня на шаг: в его лице теперь было смятение.
«Как же ты давишь на меня! – отчаянно выкрикнул он. – Только ничего не говори, ладно? Я больше не хочу твоих проповедей! К черту все!»
Дальше он перешел на брань, которую я прежде от него не слышал. Я слушал ее, как слушают исповедь. Это и была исповедь. Я принял ее, а Святослав, очистив сердце, чуть посветлел.
Соединенность со мной он ощущал теперь как связанность. Мой сын пришел со мной проститься, и я благословил его.
«Иди и не возвращайся, пока не захочешь, — сказал я ему. — А захочешь вернуться, приходи не раздумывая».
И Святослав, по-детски чмокнув меня в щеку, ушел. Ушел из неяркой жизни в яркую, где любовь властна, а неволя сладка. Ушел, чтобы не слышать больше меня. Чтобы произносить «я» с ударением, чтобы играть на выигрыш. Чтобы кружилась голова, подскакивало сердце и горела кровь.
Как нервы проходят через тело, через жизнь проходят цепные передачи импульсов, от сердца к сердцу, от души к душе. Есть линии передачи боли, есть линии передачи блаженства – первых миллиарды, вторых единицы.
Эта непропорциональность не означает, что в цепь блаженства можно войти лишь случайно. Ее не требуется искать. Что требуется — это отличать блаженство от наслаждения. Разница между этими двумя состояниями уже слышна в их названиях, но я не знал еще никого, кого влекло бы благо, а не сладость в 16 лет.
Как возжелать блаженство, не пресытившись наслаждениями? Но другие ожидали, что Свят прямиком выйдет из пустыни отрочества на плодородную ниву мудрости, потому и обескуражились, когда он вдруг повернул от нее в сторону, на заболоченную землю.
Уход моего сына с Рыбацкого пляжа особенно сбил с толку его самых близких друзей — близнецов Зеведовых. Они думали, что Свят превознесен своей судьбой над ними. Он не терял, как они, время на блуждание в потемках по подвалам жизни, а был ведом отцом прямо к лестнице наверх, где летает голубь – Святой дух, где радость и покой. Но не было еще ни одного отца, который смог бы удержать навсегда руку сына в своей руке.
«Разве я не говорил вам, как мало определяют в жизни причинно-следственные связи?» – спрашивал я Ваню и Яшу, когда они высказывали мне свое недоумение. Они соглашались, но скоро снова это забывали.
Это очень удобно, когда тебя ведут за руку. Но тот, кого, как дитя, ведут за руку, оказывается вне синергии – участия в сотворении мира. У каждого в синергии своя роль. Каждый получаем свою роль вместе с жизнью — одно от другого неотделимо. Чтобы сыграть свою роль, дети отходят от отцов и матерей, кто бы они ни были.
После того как Святослав перебрался к Ольге, люди стали сомневаться во мне. Они говорили друг другу:
«Смотрите, его собственный сын ушел от него к какой-то дешевке, и он не смог ничего поделать. О каком «десятом чувстве» он тогда болтает? »
Молва о моем бессилии в воспитании сына быстро разошлась во все стороны, и интерес к сходам стал падать. Только старые друзья остались мне преданными. Мы продолжали каждый вечер собираться на Рыбацком пляже. На сходах никто из них разговоров о Святе не заводил, а вот наедине со мной планы его спасения предлагал почти каждый.
Особенно активно участвовал в судьбе моего сына Ваня Зеведов. Он ходил на Таити, разговаривал там со Святом, после чего убеждал меня , что Ольга — «ведьма», и я должен вырвать сына из ее рук.
«Что значит «ведьма?» – спросил я Ваню. Он обиделся:
«Сам знаешь. Чего спрашивать?»
«Я спрашиваю тебя как семантик семантика», — ответил я, и Ваня тогда задумался.
«Ведьма – это стерва, которая сильнее тебя», — наконец сформулировал он.
«Силы всегда от чего-то зависят, как и слабости, — сказал я. — Вот костер, вот река. Если засуха и ветер, в силе тогда огонь, и от костра может загореться лес. Если затяжные дожди, река может выйти из берегов и затопить Рыбацкий пляж».
«Вот увидишь, Свят пропадет», — предрек Ваня, не вникая в мои речи.
«Никто не пропадет, — сказал я ему. – Каждый находится в поле своей судьбы и останется там до конца».
«Ты хочешь сказать, что все предопределено заранее?» – спросил он меня.
«Я хочу сказать, что судьба не черта, а поле. Понимаешь разницу?»
Ваня прожал плечами и отвернулся.
«Разве ты сам не влюблялся в «стерв»?» – спросил я его.
«Я – это другое, — сердито буркнул он. — Я жил в дерьме и потому попадал в дерьмо. А Свят в дерьме не жил, и все равно угодил туда же – вот что противно! Только не спрашивай меня, что значит «дерьмо»! Хватит на сегодня семантики!»
Я спросил другое: что ему известно об Ольге? Он рассказал:
» Живет здесь недалеко. 27 лет. Свят у нее не единственный. Она переспала уже со всеми, кто пасется вокруг нее на Таити. Хвалится, что была чемпионкой по плаванию. Плавает она, и правда, классно, и еще хорошо поет, я сам слышал. Свят от ее голоса шалеет».
23
Фомин пришел на Рыбацкий пляж еще раз. С ним была Даша, рослая девушка с кукольным лицом. Они появились, когда солнце уже садилось.
«Как мало сегодня народу!» – воскликнул Фомин, после чего поздоровался и представил Дашу. Его спутница строила глазки направо и налево. Компания была мужской, и она бросала ей вызов. Только Яша обращал на нее внимание, и я: в ее заигрываниях пряталась та же надежда, которая мне слышалась в голосе моего сына, когда он кричал на меня.
«Помните, вы меня пригласили на костер?» – обратился ко мне Фомин, словно никогда не заливал на Рыбацком пляже огонь. — «Вот я и пришел».
Мой знакомый изменился: теперь он был выбрит, пострижен, его голос помолодел, а взгляд стал медленнее.
«Вы не обращайте на нас с Дашей внимание, — бодро сказал он компании. — Мы посидим с вами немного и пойдем купаться. А потом – наверх, спать».
Фомин махнул рукой в сторону моего шалаша, и тогда вмешался Монашек, который в тот вечер снова был с нами:
«Там занято», — сказал он с суровостью, которой мы у него не знали.
«Ну тогда мы поставим палатку где-нибудь там», — сразу согласился Фомин и махнул рукой в другую сторону. Он помог снять Даше рюкзак, освободился от своего собственного, и они подсели к нам.
Разговор, оборвавшийся с появлением гостей, не возобновился. Фомин воспользовался молчанием и обратился ко мне.
«Я приехал за продолжением», — сказал он и напомнил: «Блаженны неимущие, ибо им будет свобода». Ведь это начало Нагорной проповеди в вашем пересказе, верно? С вашим пониманием значения слов и выражений, правильно я говорю? А дальше?”
Я почувствовал жжение у правого виска – туда упал взгляд Монашка. Мне не требовалось спрашивать его, чего он добивался. Всякий раз, когда я передавал что-то из Евангелия другими словами, он страдал и пытался остановить меня. Бывало, что я останавливался.
Я повернулся к брату Антонию, и он понял по моему взгляду, что в этот раз такого не будет. Тогда он встал и ушел: так он делал всякий раз, когда я продолжал «вольничать».
Обычно Монашек уходил тихо, но в этот раз он не оставил свою досаду под рясой, а шумно выдохнул ее. Прозвучало это как «Эх!» Его рука приподнялась и резко, как топор, упала вниз, отсекая его от меня. Отсекая навсегда, как потом оказалось.
Я проводил брата Антония взглядом, пока он не скрылся из виду. Фомин ждал от меня ответа, глядя в землю. Я почувствовал напряжение в горле. Моя гортань сжалось и выпустила из себя Голос:
«Блаженны неимущие, ибо все, что им нужно, у них есть в душе.
Блаженны принявшие боль, ибо они окажутся на воле.
Блаженны те, кто отказался от борьбы, ибо они станут победителями.
Блаженны переставшие грезить, ибо они узнают Господа в отблесках.
Блаженны сострадающие и жертвам и злодеям, ибо зло перед ними бессильно.
Блаженны те, кто не держит золы в сердце, ибо их сердца наполнит Господь.
Блаженны те, кто освободился от страстей , ибо наследство перейдет им.
Блаженны незаметные, ибо они сохранены для перелета через бренное.
Блаженны вы, люди-факелы, когда вас гонят и поносят, высмеивают и унижают, уличают в невежестве, самозванстве и глупости. Свет от вас сначала режет другим глаза, а потом дает им видеть больше, чем прежде.
Радуйтесь своему участию в сотворении мира и веселитесь, ибо вы его соль, его сияние, его свежесть, его вдохновение, его отдушина, его душевность. Смиритесь с близкими, смиритесь с дальними, смиритесь со злобными, смиритесь со лживыми, смиритесь с фанатиками, безумцами, мошенниками, властолюбцами и всеми, кто видят в вас врагов. Да замкнется на вас цепь мести и передачи боли».
Только отзвучал Голос, как Даша повалилась на землю. Лежа на спине, она забилась и завопила что-то нечленораздельное с пеной на губах. Фомин придвинулся к ней и положил ее голову себе на колени, после чего Даша затихла.
А у меня горело горло. В моем горле словно вспыхнуло пламя, и его языки бросались во все стороны, обжигая щеки и виски, плечи, грудь, спину. Я вскочил и двинулся к реке.
Оказавшись у воды, я увидел на ее поверхности свечение, в очертаниях которого узнавалась человеческая фигура: отражение огня, охватившего меня, моя «золотая тень». Это свечение меня завораживало, но я не мог стоять и смотреть на него: если я не двигался, пламя во мне жгло меня невыносимо. Я стал заходить в воду, и по мере погружения в нее огонь во мне угасал, и моя «золотая тень» темнела. Когда я нырнул в воду, а потом снова оказался на поверхности, вода была сплошь черной, какой и должна быть в облачную ночь. Я перевернулся и лег на нее.
24
Состояние, в котором я потом находился, называют забытьем. Меня вывел из него голос Фомина:
«Даша заснула», — услышал я и обнаружил, что мой знакомый лежит на воде рядом со мной. – «Вы ведь метили в меня, правда? А попали в нее. «. Он помолчал и добавил: «Даша хорошая девка, сердечная, вот только шлюха. Почему так тянет к шлюхам, вы не знаете?»
Я не мог говорить с ним, потому что не чувствовал больше своей гортани. Там, где она должна находиться, был воздух. Фомин не тяготился моим молчанием — он сам себе все объяснял.
«Тянет к шлюхам, потому что их можно купить, — говорил он. – Торговые отношения, в сущности, самые приятные отношения. Почему? А потому что в них много свободы. Свобода – вот что всегда самое привлекательное. Человек – общественное животное, но не стадное. Ведь если кто может обойтись без стада, того в стаде не удержать. Вот она, главная особенность нашего общества в настоящий момент: распад стада и балдеж от торговли, первой гавани в плавании по морю свободы. Мы с вами в разных положениях: вы потеряли в этой гавани все, что приобрели, и уплыли из нее, я же в ней только что оказался и еще во всю балдею от приобретений. Вы еще не знаете моей новости: я связался недавно с одним рекламным бюро. Пишу для них всякую дребедень. Талант рекламщика у меня открылся, можете себе представить? Деньги теперь заимел, и хорошие деньги. С сельхозработами покончено. Нравится мне рекламное дело. Здесь не надо притворяться умным или святым. И скрывать настоящих намерений не надо, понимаете? А намерения эти простые: продать, заработать деньги и закрутить их по новой — и все, никакого клея, никакого елея. Да что я вам рассказываю — вы сами это знаете. Только не говорите мне, что на этом далеко не уедешь. Я и не обольщаюсь. Я так и говорю: сижу в гавани. Мне и ехать-то никуда не хочется. Тогда зачем, спрашивается, я к вам пришел? А потому что какая-то неуверенность у меня еще оставалась. И вы мне помогли с ней разобраться, спасибо вам. Вот вы проговорили для меня один за одним условия этого самого блаженства, и я себе все в раз уяснил: не хочу я его такой ценой. Я сейчас просто хочу пожить в свое удовольствие. Здесь-то и собака зарыта: я еще не жил в свое удовольствие. Не зовите меня с собой. Ведь я сдуру могу рвануть к вам. А мне еще рано».
Высказавшись, Фомин перевернулся со спины на живот и поплыл обратно к берегу. Он плыл от меня прочь, не давая мне возможности что-то ему сказать. Да и что было сказать на «рано»? Слово «рано» как запятая, свернувшаяся точкой.
Скоро я услышал голос Фомина еще раз, но уже в другом звучании, а вместе с ним – еще один, Дашин. Она тоже была в воде. Я двинулся прочь от спора, который донесся до меня. Часть меня только что сгорела, а то, что осталось, хотело покоя.
Я вышел из воды в стороне от Рыбацкого пляжа и тут услышал за спиной:
«Подождите!»
Это была Даша. Она плыла ко мне.
«Что со мной было? Из-за чего меня так затрясло?» – принялась она меня расспрашивать, когда выбралась на берег. Как и я, она зашла в воду, не раздеваясь. С ее волос и платья стекала вода. Она смотрела мне прямо в глаза, и ее взгляд был тяжелый. Все, что во мне уцелело, стало собираться вместе.
«Я помню только, что ты что-то говорил, а что говорил – не помню, — услышал я опять Дашу. — Ты что-то сказал – и у меня вдруг припадок, а я не припадочная. Ты что-то со мной сделал? Говори, что это было?»
Мне вспомнился голодный Любовин, живущий в сердце.
«СкачкИ зверя,» — услышал я себя: у меня вдруг появился голос. Правда, звучал он слабо, как никогда, но это заметил только я.
«Это я – зверь?!» – возмутилась она. Но в следующий момент Даша снова взялась за свое.
«Я же не припадочная, откуда это? – говорила она, как заведенная. — Ты что-то со мной сделал? Как бы меня наказал, что ли? Наказал, потому что я тебя не слушала, потому что мне на тебя наплевать? Да что я такое сделала?! Я просто сидела, отдыхала. Не люблю я религиозное, скучно мне это. Что я могу с этим поделать?! Ты что думаешь, я в церковь не ходила? Ходила. Десять минут простою – и на выход. Не для меня это – молиться. Но разве я одна такая?! Зачем же меня так наказывать? Или ты разозлился на меня за то, что я с мужиками заигрывала?»
«Наказывать». Я не сразу понял, о чем это она. Я уже забыл это детское слово. «Религиозное», которого не любила Даша, было о Боге, который наказывал.
«Ну заигрывала, ну и что? – не унималась Даша. — Я люблю играть, понимаешь? Нет, я вижу, ты не понимаешь. Тебе такое не понять».
Я спросил ее:
«Ты много выигрываешь?»
«Много», — сказала она, и ее лицо расслабилось. «Но за это не любят», — добавила она с ухмылкой.
«Какая любовь у проигравших?»
«Что же тогда, играть в поддавки? Или вообще не играть?»
«Как не играть? Играй. Только не присваиваивай себе выигрыши».
«Что значит «не присваивай выигрыши»?! Что же тогда, по-твоему, с ними делать?»
«Оставлять в игре».
Я видел, что Даша ничего в моих словах не поняла, но так это должно было остаться. Больше я говорить с ней не мог. Мои ноги едва меня держали.
Из последних сил я добрался до вершины откоса и лег на траву. Я пролежал там в беспамятстве всю ночь, следующий день и следующую ночь. Только тогда я смог подняться на ноги и вернуться на Рыбацкий пляж.
Фомина и Даши там, конечно же, уже не было.
25
Однажды днем, когда я сидел один на вершине откоса – такое теперь стало случаться часто, появился отец Павел из Преображенского монастыря. Я слышал о нем. Говорили, что он писал отцу Александру проповеди, которые игумен потом заучивал наизусть.
Павел сказал мне, что его привело желание познакомиться со мной, но его взгляд выдавал цель, которую он преследовал втайне: обратить меня в свою веру и тем самым обезвредить.
«Я чувствую вашу боль, Владимир», – начал он, и это была неправда: он не мог ее чувствовать. Я спросил его:
«Разве обезболевающее, которым вы пользуетесь, вам больше не помогает?»
«Вы о чем?» – не понял он.
«Об УЖВ».
«Какой еще УЖВ?! – мой гость уже не скрывал раздражения.
«Это такой наркотик».
«Наркотик?! – возмутился он. – Что за чушь! Да такого наркотика и не существует!»
«Существует», — заверил я его и расшифровал сокращение: «упоение жреческой властью».
«Вы шутник!» — усмехнулся Павел и опять взялся за свое:
«Вам, Владимир, надо спасать сына, а вы забавляетесь. Ведь это не я, а он употребляет наркотики. Разве вам не известно, что происходит на соседнем пляже?». Он имел в виду “Таити”.
Я задумался, а он изучал меня.
«Я не знаю, как спасти его от юности», — сказал я.
Павел стал ярче лицом: он знал, что сказать на это, но я опередил его.
«Ну хорошо, — сказал я ему, — пусть вы своего добьетесь, и я публично раскаюсь во всем, в чем я, по-вашему, согрешил. О вашей победе заговорят, вами начнут всюду интересоваться, и что? Вам станет от этого лучше? Выйдя из тени, как будете скрывать свои сомнения? Сколько ни говори им «вон!», они не уйдут. Тягостны молитвы, отбиваемые в уме молотком воли. Этот стук не отзывается в сердце. Глупое оно, сердце, — отзывается лишь тому, что дает ему радость».
Я увидел, как потемнели его глаза.
«Оглянись вокруг, — заговорил он, переходя на ты, — ведь все оставили тебя. И ты меня учишь?!»
«Я чувствую твою боль, — ответил я ему его же словами, но по его лицу было видно, что он их не узнал. – Ты ведь каждый день просишь Господа дать тебе веру, избавить тебя от проклятых вопросов – этих бомб, взрывающих храмы. Ведь если храмы рухнут, ты окажешься в пустоте. Разве не ее ты боишься больше всего на свете?»
Павел отозвался не сразу.
«А ты ее не боишься? – спросил, наконец, он.
«И она дышит».
«Красиво говоришь», — процедил он сквозь зубы.
«Давно меня не хвалили», — сказал я, и мы первый раз усмехнулись одновременно.
Я предложил Павлу остаться на сход. Он сказал, что не любит таких сборищ, но с Рыбацкого пляжа не ушел. Он молча просидел у нашего костра, пока тот не погас, и остался спать у его пепелища.
Павел не вернулся к отцу Александру и на следующий день. Когда из Преображенского монастыря пришел посыльный, он отправил его обратно ни с чем. А через несколько дней у нас появился брат Кирилл, монастырский иконописец. И он тоже остался с нами.
26
Брата Кирилла чаще называли длинным, чем высоким. Он был узок в плечах и узок лицом. Ряса усиливала впечатление о необычности его пропорций, а она приводила многих к заключению, что перед ними аскет.
Аскетом брат Кирилл не был. Его плоть была сухой, потому что ее иссушил огонь. Если бы не он, брат Кирилл ходил бы с брюшком, как и все чревоугодники и выпивохи, ибо был одним из них. Никто не знал, зачем этот монах сидел с нами у костра — в нем горел свой костер.
Уставившись на огонь, который теперь вместо Свята разжигали близнецы Зеведовы, брат Кирилл был захвачен не им, а своими мыслями. Он редко отзывался сразу, когда его кто-то окликал, а если его спрашивали что-то в связи с общим разговором, он подчас и не знал, о чем шла речь. Все уже привыкли, что он имеет обыкновение говорить невпопад, и потому не удивились, когда однажды, дождливым вечером, сидя с нами в палатке, он ни к слову ни к делу воскликнул:
«Нужна другая палатка! Белая, в форме шатра, с откидными полосами-клапанами, расписанная внутри маслом: палатка-храм».
Брат Кирилл обвел нас взглядом и, направив указательный палец в землю, добавил:
«Здесь! На этом месте!»
Его пылающий взгляд перебросился на меня в ожидании моей реакции.
«Палатка будет, — отозвался вместо меня Петр. – Я знаю, кому ее заказать».
«Храм?! – саркастически переспросил Кирилла Павел. – Ты опять за свое?»
Кирилл перебросил свой взгляд-огонь на него.
«Храм – это то, что нужно всем».
«Кому это – всем?! » – вмешался возмущенный Андрей.
«Всем, — повторил уверенно Кирилл. – Даже тебе. Наш храм станет местом, которое собирает таких, как мы».
Андрей деланно рассмеялся и обратился к компании:
«Видали? Он мечтает собрать нас в стадо и пасти нас!»
Кирилл опять обвел взглядом друзей и произнес с нервной торжественностью:
«Не в стадо собрать, а собрать вместе. И собирать буду не я, а место. Я только хочу, чтобы это место было видно для других — для тех, кто идет к нему издалека».
Это прозвучало трогательно, и все какое-то время молчали. Потом опять подал голос Павел.
«Этот храм не будет нашим, — не столько возразил, сколько грустно заметил он. – Мы не той породы, чтобы сидеть на одном месте. Мы будем сюда то приходить, то уходить, а пока мы мельтешим, этот твой храм займут другие – усидчивые, устойчивые».
«В старину были домашние церкви, — сказал Петр, не обращая внимания на Павла. — Наш храм станет домашним – домашней церковью кобщества. Если службы будут в разные дни и в разное время, о них будут знать только свои. А между службами мы наш храм будем закрывать».
«Закрывать палатку?! – усомнился Андрей. – Как же ты ее закроешь?»
«Закрою, не беспокойся», — уверил его брат.
«Какие службы?!» – возмутился молчавший до сего момента Ваня Зеведов.
Он посмотрел на меня и с негодованием спросил:
«И ты их хочешь? Может, станешь еще кадилом махать?»
«Кадилом махать я не стану, — ответил я. – А службы у нас уже идут – это наши “костерства”.
Давно я уже не произносил этого слова, которое придумал Свят. Сорвавшись у меня с языка, оно обдало меня грустью и одновременно – добавило мне энергии.
«Костерства” – это разговоры, а наши «церковники» хотят проповедовать», — сказал Ваня и, оглядев компанию, заявил:
«Если дойдет до этого, меня здесь больше не будет».
«Меня тоже», — сказал я.
Обиженный Ванин взгляд опять перескочил на меня.
«Это ты сейчас говоришь», — сказал он.
«Чего ты на Владимира-то наезжаешь», — заступился за меня Яша. – «Он-то как раз против проповедей».
«А чем плохо учить других тому, что знаешь лучше их?» – риторически спросил Петр.
«Было бы неплохо, если бы мудрость могла усваиваться так же, как математика, — сказал я. — Но для ее усвоения требуется больше энергии, больше движения, больше обменных процессов. Общение подходит для этого больше, чем слушание проповедей. Я не то что бы против проповедей, просто их и так хватает. Чего всем не хватает, так это как раз общения».
«Всем?» – переспросил с раздражением Андрей. – И тебе? Тебе-то оно зачем?»
«Интересно, что видят со своего места другие. Со моего места я не могу видеть все».
«Ах, да брось! – возмутился он еще больше. — Что ты сюсюкаешься с нами, как с детьми? Ты что, разве такой, как мы? Ты слышишь Голос, у тебя все время видения, прозрения, озарения, ты даже спишь на земле в своем шалаше и не мерзнешь, а мы? У нас нет такого энергоснабжения. Неужели ты думаешь, что мы этого не понимаем? Ты и мы словно два друга, отправившиеся вместе в путь – один на самокате, другой – на самолете. Что, не так, что ли?»
Все теперь смотрели на меня. Каждый хотел моего ответа.
«Я действительно оказался в самолете», — ответил я. – «Но самолет не всегда дает преимущество. Я много пропустил в полете и помню все меньше и меньше то, что было со мной раньше «.
Услышав это, мои друзья сначала замерли, а потом принялись меня расспрашивать. Они спрашивали, бывают ли у меня депрессии, ночные кошмары, грязные фантазии, жгучие желания, как например, кому-то дать в морду или поесть селедки. У меня могло быть все, что они называли. Определенного ответа я им дать не мог, так как не запоминал свои желания – для меня они были все равно, что рябь на воде. В этом и была разница: я относился к желаниям как к ряби.
Расспросы прервал брат Кирилл. По своему обыкновению он вдруг вмешался в разговор со своим. Брат Кирилл сказал:
«В центре палатки, как у нас уже повелось, будет гореть свеча – одна на весь храм, толстая, горящая долгое время. На свечу будет одеваться стеклянный колпак, а к нему будут прикреплены небольшие передвижные зеркала, которые станут разбрасывать свет в разные стороны. Этот колпак с зеркалами можно будет передвигать вверх и вниз, в зависимости от длины свечи «.
Кирилл перевел взгляд на меня и спросил:
«Что ты об этом думаешь?»
«Палатки хороши тем, что их можно переставлять».
«Зачем переставлять храм? – спросил он недоуменно. — Храм – это место.»
«Место – это мы», — сказал я.
«А где Монашек?» – вспомнил Кирилл о единственном среди нас, у кого бы он мог найти сочувствие. Но брат Антоний как ушел тогда, из-за Фомина и меня, с Рыбацкого пляжа, так больше здесь не появлялся. Не видели его с тех пор и в Лобове.
27
Однажды передо мной предстал пришелец. Он не поздоровался, не представился, а сразу сказал:
«Есть люди, которым ты не нравишься. Ты для них как вошь, и они тебя не хотят, понял? Чтобы завтра тебя здесь не было. Замешкаешься – пеняй на себя».
Ему не нужно было моего ответа. Он сказал свое и ушел.
Через два дня, когда я вернулся из леса, то увидел, что мой шалаш развален. Я спустился на Рыбацкий пляж – и там был произведен погром. Кто-то измазал катерок братьев Ионевых дегтем, разбил окна и отбросил в сторону бревно, приставленное ко входу. Я окликнул Петра и Андрея — они не отозвались. Я позвал других – и их нигде не было. Палатки были свалены и изрезаны ножом. Когда я опустился на песок и закрыл глаза, то почувствовал за спиной движение. Я не обернулся. Я знал, что это черные ангелы. Они приблизились ко мне. Их было двое, и говорил тот, кто уже приходил ко мне. Он сказал:
«Если ты завтра еще будешь здесь, раздавим».
Я просидел один на Рыбацком пляже до темноты. Я чувствовал спиной ураган, побывавший здесь, — он не улетел, а свернулся и повис где-то поблизости. Я долго чувствовал его нацеленным на меня, а потом вдруг обнаружил, что нахожусь от него в стороне. И тут я услышал у себя в ушах детский плач, который очень хорошо знал. Мои нервы сжались. Я вскочил и открыл глаза, но увидел только Петра. Я не заметил, когда он появился на Рыбацком пляже и подсел ко мне. Он сидел прямо передо мной на песке и был в недоумении от моих телодвижений.
«Что ты знаешь о Святославе?» – спросил я его.
«Ничего нового, — ответил Петр. – Он должен быть у Ольги».
С этими словами Ионев-старший тоже поднялся. Встав передо мной лицом к лицу, он сообщил:
«Пока тебя не было, здесь были люди Велкина, девять человек».
Когда черные ангелы причалили к Рыбацкому пляжу, Петр бежал от них. Он думал, что Андрей сделает то же самое, но тот, как потом оказалось, вступил в драку с велкинцами, и они поломали ему ноги. Когда черные ангелы ушли с Рыбацкого пляжа, Петр вернулся, нашел брата и доставил его в Лобовскую больницу. Где сейчас близнецы Зеведовы, Павел и Кирилл, он не знал. Петр убежал с Рыбацкого пляжа первым, а когда вернулся, здесь был только избитый Андрей.
«Велкинцы сожгли мой гараж в Лобове, тот, что у рынка, — сказал Петр с мукой в лице. — Пока только тот. Они передали мне записку с угрозой, что то же будет и с другим гаражом, если я опять пойду на Рыбацкий пляж».
«Давай разожжем костер», — предложил я.
Петр опустил голову – глаза у него уже давно были опущены, и неровно качнул ею из стороны в сторону. Пришел момент, когда требовалось сказать самое трудное, и его голова стала чугунной.
«Я не могу остаться. Я должен быть в Лобове, — произнес он глухо. – Я пришел только посмотреть, какая здесь ситуация».
Мне не нужно было слышать от него всю правду до конца. То, что Петр пришел ко мне, рискуя своим вторым гаражом, было уже много. Я обнял его на прощание, и он заспешил к своему мотоциклу. В этот раз Петр въехал на нем прямо на Рыбацкий пляж, чего раньше, по моей просьбе, не делал.
Я восстановил свой шалаш, потом спустился к реке, разжег костер и сел у огня. Скоро я услышал шум мотора. К Рыбацкому пляжу направлялась лодка, где сидели три монаха. В двух из них я узнал Павла и Кирилла. Третий, мне неизвестный, довез их до берега и уплыл прочь.
«Ты уже знаешь, что произошло?» – спросил Павел и, получив мой ответ, продолжил:
«Одного из погромщиков я видел прежде — он бывал с Велкиным у отца Александра. Сегодня утром он прикатил сюда со своими дружками на катере. Меня и Кирилла они связали, втащили на палубу и повезли к отцу Александру. Сказали, что он нас ждет. Нас высадили поблизости от монастыря, и мы туда пошли. Отец Александр сказал, что ничего не знал о нападении на Рыбацкий пляж, и я ему поверил. Переброска меня и Кирилла обратно в монастырь оказалась полной самодеятельностью, и отец Александр ее осудил. Он даже пообещал спросить с бандитов за разбой. Я знаю, что Велкин привязан к отцу Александру, как собака. И он, как собака, не всегда его слушается, но всегда набрасывается на его врагов. Только так я могу понять налет людей Велкина на Рыбацкий пляж. То, что мы с Кириллом перебрались к тебе, для отца Александра срам. Он так и сказал нам сегодня: «Что же вы так монастырь осрамили?!» Отец Александр не знает, что с нами делать. Его до сих пор продолжают о нас спрашивать все, кому не лень. Если мы вернемся и покаемся, отцу Александру будет честь, если нет – позор останется на всю жизнь. Я сказал отцу Александру, что не вернусь, и Кирилл сказал ему то же самое. Он совсем расстроился. Бедный старик еще надеялся, что это у нас временная дурь».
«Бедный старик»!» – передразнил Павла Кирилл.
«Не язви! Отец Александр – догматик, вельможа, завхоз, но он хочет хорошего. И я верю, что он ничего не поручал Велкину. Тот сам взялся помочь монастырю, потому что относит его к своей территории».
Кирилл отвернулся от своего товарища и заявил мне:
«Надо уходить с Рыбацкого пляжа».
Павел громко рассмеялся.
«А как же храм, который должен быть поставлен именно на этом месте?»
«Теперь это линия фронта. Храм был задуман домашним, а не военным», — сказал Кирилл.
Я спросил Павла и Кирилла, что им известно о других. Оказалось, что ничего.
«Если мы отсюда уйдем, как они нас найдут? – задумался вслух Павел. – Да и куда спешить? Отец Александр сказал, что остановит Велкина. Не придут они сюда больше».
«Я остаюсь здесь». – сказал я.
Павел и Кирилл остались со мной.
28
На следующий день утром на Рыбацкий пляж вернулись близнецы Зеведовы. С ними пришел человек, который не разговаривал. Яша и Ваня звали его Немым, и он на это имя отзывался. Немой поставил на Рыбацком пляже свою палатку и остался с нами. Я спросил Ваню, слышал ли он что-нибудь о Святославе. На Таити люди Велкина не появлялись – это было единственным, что Ваня знал. Я попросил его сходить к Святу и рассказать моему сыну, что случилось на Рыбацком пляже. Только рассказать о происшедшем, больше ничего.
Ваня отправился к Святу следующим утром и пришел обратно взволнованный. Сын просил передать, что вернется к нам. Он пообещал прийти на Рыбацкий пляж через день.
Но через день Свят не пришел. Не увидели мы его здесь и днем позже. Зато пришел все тот же человек от Велкина и сказал, чтобы я явился следующим утром в 10.00 к его хозяину в Лобов. Мой ответ и в этот раз его не интересовал: он передавал приказ.
На другой день ничего особенного не произошло. Никто не пришел от Велкина и в следующие дни, словно тот и не ожидал от меня повиновения. А через неделю после разговора Вани со Святом, ранним утром, ко мне пришла Ольга. Я еще спал. Она села у моего шалаша и окликнула меня. Услышав ее голос, я понял, что произошло дурное.
Я выбрался из шалаша и сел рядом с Ольгой. У нее на лице были ссадины и синяки.
«Что случилось?»
«Свят у Велкина. Его держат там силой. Велкин послал меня к тебе с ультиматумом: или ты уйдешь из этих мест и тогда они отпустят Свята, или с твоим сыном произойдет «несчастный случай».
От меня требовалось не просто уйти. Черные ангелы хотели, чтобы я исчез немедленно и бесследно, ничего никому не объясняя.
«Они заставят всех поверить, что ты испугался Велкина, — сказала Ольга. — Он ведь посылал к тебе своего человека с приказом к нему явиться. Ты исчезнешь, и Велкин скажет, что ты сбежал из-за страха перед ним».
Черные ангелы всегда нападают на встречных и всегда думают, что убирают их со своей дороги. Но у черных ангелов нет своих дорог — их несет ветром, и это он сбивает с ног людей, оказавшихся рядом с черными ангелами. Эти люди — встречные ветра, а не черных ангелов.
Такой ветер должен был сбить с ног и меня, но, подлетев ко мне, он замер, а потом повернул к моему сыну. Долетев до Свята, тот ветер теперь замер перед ним. Вырвется ли он из своего затишья, чтобы налететь на моего сына, или нет, зависело от моего ответа.
Случись это прежде, до Голоса, я бы знал, как поступить. Но теперь…
Я ждал, что скажет Голос. Но Голос не раздавался.
«Что они с тобой сделали?» – спросил я Ольгу.
«Ничего особенного, — ответила она. – Наиздевались и отправили к тебе».
«Как ты оказалась у Велкина?»
«Сама к нему пошла. Я хотела выкупить у него Святослава. Но Велкин вор. Он берет и не дает».
«Как ты это вынесла?»
«С трудом», — бесстрастно сказала Ольга и закашлялась. Кашлять ей было больно.
Я взял ее руку в свою, поднес к губам и поцеловал, не найдя лучшего способа поклониться ей. Ее истерзанное тело ничего не чувствовало, а ее равнодушный взгляд, встретившись с моим, не изменился. Она скосила глаза и спросила:
«Что мне передать Велкину? Я должна вернуться к нему с твоим ответом».
Ее рука еще была в моей. Я встал, поднял Ольгу и потянул ее за собой к реке.
Мы зашли в воду, не раздеваясь, и когда я поплыл к другому берегу, Ольга последовала за мной. Бывшая чемпионка по плаванию, она скоро обогнала меня, а потом отплыла в сторону, пропуская меня вперед.
Я вышел из воды, вышла и она. Вода текла с ее волос и одежды. Она не замечала этого и рассеянно оглядывалась кругом. В своем оцепенении она не сразу задрожала от холода. Холод вернул ей чувствительность. Когда ее забила дрожь, мы вернулись в воду и поплыли обратно.
В катерке братьев Ионевых оставались их вещи, и мы с Ольгой переоделись там в сухое.
«Хорошая это была идея – идти плавать», — сказала она, и ее глаза первый раз блеснули. — “Ну а теперь скажи, наконец, что мне передать Велкину?”
Ее вопрос застал меня врасплох. Ольга заметала мое замешательство и произнесла с нажимом:
«А что если я сейчас разбужу братков Зеведовых и расскажу им, где Свят?»
Она посмотрела на меня испытывающе и добавила:
«Яшка ведь уже раз прикончил одного подонка. Ты же знаешь, да?»
Я опять ничего не сказал.
«Я знаю, где они держат твоего сына. С ним по ночам остается только один ублюдок. Если его убрать… »
«Нет», — сказал я.
«Разве можно не убивать на войне?» – спросила она в ответ на мое молчание.
«Разве можно убивать и жить?» — спросил я.
«А ты не видишь?! Мало ли убийц, которые живут себе и живут?»
«Они не живут. Они горят».
Она усмехнулась и сказала моими словами:
«В черном огне».
Тут мы услышали Яшу, звавшего Ваню. Близнецы Зеведовы имели привычку переговариваться из своих палаток по утрам. Ольга вскочила.
«Не надо, чтобы меня здесь видели», — прошептала она и снова спросила, что ей передать Велкину. И снова мне нечего было ей сказать. Ольга отправилась к своим друзьям на “Таити”. Она собиралась там ждать мой ответ.
29
Стоило Ольге оставить Рыбацкий пляж, как здесь появился Леша Малыхов, стажер-оперативник из Лобова : он искал и ее и моего сына. Об исчезновении их обоих заявили в милицию друзья Ольги. Они сообщили, что Ольга и Святослав должны находиться у Велкина, но доказательств у них не было. Штатный работник милиции не принял бы такого заявления, и тем более не пришел бы ко мне на Рыбацкий пляж его проверять. Люди в России пропадают ежедневно, и ищут их очень избирательно, по веским причинам, а не потому, что их жизнь в опасности: чья-то жизнь сейчас в России – мелочь.
Леша Малыхов был особый случай. Он хотел бороться со злом, потому и поступил учиться в школу милиции. Только чистая душа, не предавшая детства, могла так верить в правопорядок. Начальник милиции в Лобове и думать не хотел о деле против Велкина, и тогда Леша взялся за него самовольно. Он вел его в свое свободное время и относился к враждебности, на которую наталкивался, с превосходством праведника перед грешниками. Одинокий крестоносец, он тронул меня. Я ответил на его вопросы с той же серьезностью, с которой он их задавал. Я знал, что ему не помочь моему сыну, но все же обнял его на прощание и сказал “Бог в помощь”. Леше это не понравилось — я был для него сомнительной личностью, и он не хотел от меня ничего личного.
Когда Малыхов ушел, я решил посмотреть, какие вещи Свята еще оставались в его шалаше. Я нашел там чистый блокнот и вспомнил, что мой сын собирался писать песни. Он так и не сочинил ни одной. С его нетронутым блокнотом в руке я снова спросил Голос: что мне делать? И опять не услышал ответа.
Когда я выбрался из шалаша Свята, передо мною предстала Марина. Оказалось, что все это время она пробыла у Людмилы.
«Я хочу обратно к вам», — объявила мне она.
Ее первая встреча с Людмилой произошла у меня на глазах, и я видел, что Марина была вся в напряжении, когда слушала ее рассказ о Софии.
«Почему ты вернулась?» – спросил я.
» Эти “сестры-софиитки”, которые вьются вокруг Людмилы, только и делают, что ей подпевают. Они ее “хор”, а я не хочу “петь в хоре”, произнесла Марина сквозь зубы и потом взорвалась:
«Я сама не знаю, зачем я вернулась! Кто я здесь? Что я значу для Ионевых? Ничего! Для Павла? Он смотрит на меня, как на пустое место. Для Кирилла? Он меня не слушает. А что я значу для тебя?! Разве я для тебя что-то значу?! Ты только делаешь вид, что для тебя все одинаково хороши, а такого быть не может! И не смотри на меня так свысока!»
Я только перевел дыхание, как последовал новый взрыв.
«Да, я ору! Да, я злая! Что еще? То, что я баба, а бабы вам для вашей семантики не нужны? Этого вы, конечно, прямым текстом не выдадете! Но это у вас в затылке – у всех у вас, и у тебя тоже! А знаешь, что я тебе скажу? Я тебя понимаю и получше Андрея, и получше Павла, а уж о Петре, Монашке, и тем более – мальчишках Зеведовых и говорить нечего».
Я слушал ее и думал о Святе. Она же, заметив мою раздвоенность, приняла ее за неприязнь.
«Дойдет ли до тебя когда-то, что женщине твоя семантика ближе, чем мужикам? Ты все о пространстве, а у них на уме — территория! Ты говоришь: давай да раздавай, а у них на уме – схватить да удержать. Потому они на тебя и бросаются – ведь ты им понятия ломаешь, которыми они свои территории удерживают. Все эти стычки, все эти свары, все эти войны – борьба за территорию. Женщины в ней не участвуют. Вот в чем суть-то: женщины никогда не участвовали и не участвуют в борьбе за территорию — а ты разве это видишь?!»
Что я видел, это огонь ее ненависти. Она ненавидела меня сейчас за то, что я никак не выражал ей сочувствия. Она везде, и на Рыбацком пляже тоже, искала для себя особого сочувствия, того не сознавая, что ей было нужно не оно. Она внушила себе, что ее сердце разбито, и у нее ни на что нет сил. А я видел, что она полна сил. Это они терзали ее. Ей требовался толчок, еще лучше – сигнал тревоги, чтобы вскочить и сдвинуться с места, а не ватное одеяло, чтобы продлить спячку.
«Завтра на рассвете я уйду с Рыбацкого пляжа, и никто не будет знать, куда,» — сказал я, и прозвучало это, как решенное дело, хотя на самом деле у меня по-прежнему не было ясности, что ответить Велкину. Не помню, чтобы мое поведение удивило меня в тот момент: то, что кружится в голове, всегда может слететь с языка. Да и сам момент требовал чего-то неожиданного.
«Что?! – вскрикнула Марина. – Почему?!»
«Моя миссия завершилась», — вырвалось у меня. И вот тогда уже я себе удивился: такого я вовсе не думал. И было не похоже, что это прозвучал Голос.
Но сразу я не придал особого значения и тем словам. Разговор, словно поезд, покатил дальше и дальше по колее, на которую свернул. А за поворотом находилась станция, о которой я не подозревал. Туда и привез нас с Мариной тот разговор, там он потом меня и оставил. Только меня.
«И все уже знают о твоем уходе?» – спросила Марина.
«Ты первая, кому я об этом говорю».
«Значит, ты объявишь это на сегодняшнем сходе», — заключила она, уставившись в землю.
«Нет».
Марина машинально отдернулась и впилась в меня глазами.
«Как так? Почему — нет?»
«Так требуется».
«А Святослав?! Ты оставляешь сына у этой шлюхи?!»
О том, что случилось со Святом, она еще не успела услышать, и я рассказал ей о последних событиях. Узнав, что Ольга пыталась освободить Свята, Марина сказала:
«Это она из-за чувства вины».
«Разве это важно?»
«Я знаю, что говорю это из злости», — призналась она, после чего добавила с усмешкой:
«А я ведь пыталась научиться у тебя быть добрее, но, вот видишь, не получилось. Ни ближних не возлюбила, ни врагов ни простила… А может, ты был плохим учителем?»
«Не мне судить».
Мой ответ ей не понравился, и она сказала хлестко:
«Твоя миссия вовсе не «завершилась». Ты ее просто не выдержал».
И тогда у меня из глаз потекли слезы. Слова Марины меня нисколько не задели, я чувствовал только усталость и потому не сразу понял, что со мной происходит. Лишь позже, когда я остался один и взглянул на странности собственного поведения с другой стороны, я увидел их связь с Голосом. До сих пор я воспринимал Голос как звучание, а теперь он заговорил слезами. И обращался он не ко мне, а к Марине.
«Господи!» – воскликнула Марина, и из ее глаз тоже потекли слезы.
Я смотрел на нее и пытался понять, что происходило. Я привык к тому, что мое сознание мгновенно извлекало смысл событий. Теперь моя голова шумела, как радиоприемник на разряженных батарейках, и я терял слух из-за этого шума. Это означало, что я мог не услышать Голос – а на то, что он, наконец, обратится и ко мне, я в тот момент все еще надеялся.
Одновременно я отмечал, что у меня менялось дыхание. Я все больше чувствовал свою грудную клетку – она словно сужалась и тяжелела. Эти ощущения отвлекли меня на какое-то время от Марины, и когда я вновь взглянул на нее, то увидел, что она преобразилась. Передо мной сидела статная, уверенная в себе женщина. Слезы из ее глаз больше не текли, но лицо еще оставалось мокрым. Где-то у меня внутри грохнуло: «Дочь!»
Нет, это не мог быть Голос, подумал я, ведь у меня в голове не стало тихо, как это бывало, когда он раздавался. Шум там даже усилился. У каждой мысли имелся свой голос, и все они одновременно что-то кричали о Марине.
«Что за наваждение!» – вырвалось у меня. Меня охватило чувство, что все это сон.
Марина подошла ко мне, провела пальцами по моему лбу от виска до виска, и то чувство пропало. Нет, я не спал, все происходило наяву, но ясности понимания, что именно происходило, как не было, так и не было. «Марина – Дочь? Марина – Дочь?!» — все так же спрашивал какой-то из моих голосов, а другие отвечали ему «да», «нет» или что-то неопределенное.
«Не надо тебе идти к Ольге. Я пойду к ней сама. Я расскажу ей, что ты уйдешь отсюда на рассвете, и останусь у нее ждать Свята», — услышал я опять Марину. Потом она сказала еще что-то, но мое внимание фокусировалось не на том, что она говорила, а на том, как звучал ее голос. Звучал он, вроде бы, обычно. Но мог ли я об этом судить с какофонией в голове?
Марина ушла, и только тогда я осознал, что теперь все решено: я ухожу с Рыбацкого пляжа.
30
Наконец, мне открылась суть дела. Намерение уйти с Рыбацкого пляжа возникло у меня сразу, как только я услышал о беде с сыном. Разве была дилемма? Разве мессии жертвуют другими? Разве вообще от кого-то требуется кем-то жертвовать? Жертвовать требуется только собой. Теперь я уже сам не знал, что я ждал от Голоса. Чтобы он что-то к этому добавил или убавил? Добавил или убавил к тому, к чему нечего ни добавить ни убавить?
То, что я пока себе уяснил, изложено здесь, в моей исповеди.
Вечером мы собрались вшестером: близнецы Зеведовы, Павел, Кирилл, Немой и я. Мы разожгли костер и сели, как всегда, в круг. Нас было мало, мы сидели на расстоянии друг от друга и молчали.
«Кого хороним?» – нарушил тишину Яша Зеведов и стрельнул по каждому дразнящим взглядом.
«Я знаю, кого, — отозвался его брат Ваня. – Петра.»
«Да вы что, правда?!» – встрепенулся Кирилл.
«Петр жив, — успокоил его Павел. – Ваня имеет в виду другое: Петр нас предал».
«Предал» – сильно сказано, — воспротивился Ваня. – Я имел в виду только то, что он уже несколько дней здесь не появляется. А прежде был всегда».
«А что если так пойдет и дальше? Мы все, один за одним, втихую начнем исчезать с Рыбацкого пляжа?» – спросил Кирилл и состроил гримасу.
Тут раздался незнакомый голос. Это был голос Немого, который еще никто из нас не слышал. Немой спросил Кирилла:
«И кто же, по-твоему, исчезнет следующим?»
Этот вопрос остался без ответа: не он, а тот, кто его задал, захватил внимание компании.
Друзья наперебой требовали от Немого объяснений, почему он всегда молчал и вдруг заговорил, да и кто он вообще такой. Но тот опять онемел и это, конечно, не нравилось. Чтобы остановить распри, я предложил:
«Пошли плавать!»
«Пошли!» — сразу отозвался Яша Зеведов и, вскочив, стал поднимать с места других.
В воде мои друзья плескались, как дети, а меня сковала грусть. Когда представился момент незаметно выйти на берег, я воспользовался им и пошел дописывать свою исповедь.
На Рыбацком пляже уже давно тишина, друзья спят, а я только что перевернул предпоследний лист блокнота.
Вот станет светать, и я уйду с Рыбацкого пляжа. Случай привел меня сюда, он же меня отсюда уводит. Я участвовал в нем, не думая о выигрышах и проигрышах. Я называл того, кто во мне дышит, «Господь». Я называл то, что во мне звучало, «Голос». Я называл тех, кто был рядом, «ближними». Я называл тех, кто на меня нападал, «черными ангелами». Я видел в их ненависти ко мне боль и называл ее «черным огнем». Себя я называл «семантиком», а Голос называл меня «мессией».
Мои ближние говорили, что готовы ко всему, но так ли это? Смирятся ли они с тем, что я тихо исчез, ничего не объяснив, не подведя черты? Увидят ли, что черты и быть не может?
Я помню дрожь, которой отдавался в моих нервах Голос. Я помню, как расступались мои мысли перед потоком слов, приходившим неизвестно откуда. Другие часто не знали, кто я. Теперь не понимаю этого и я.
Исполнил ли я свою миссию или нет, да и была ли она, все сейчас смутно. Да и не важно. Сейчас важно спасти Свята. Я уйду с Рыбацкого пляжа, и черные ангелы отпустят его.
Я должен исчезнуть из этих мест незаметно. Я принял такое условие и не оставлю этот блокнот на Рыбацком пляже. Я оставлю его где-нибудь по дороге. Ну а дальше будь как будет.
***
Аллегорическая повесть «Очередной мессия и его сын» была опубликована на голландском языке амстердамским издательством Samsara в 2005 г. Десять лет спустя ее русский текст был представлен российским читателям с некоторыми сокращениями в формате книги-блога на религиоведческом сайте «РелигиоПолис».


