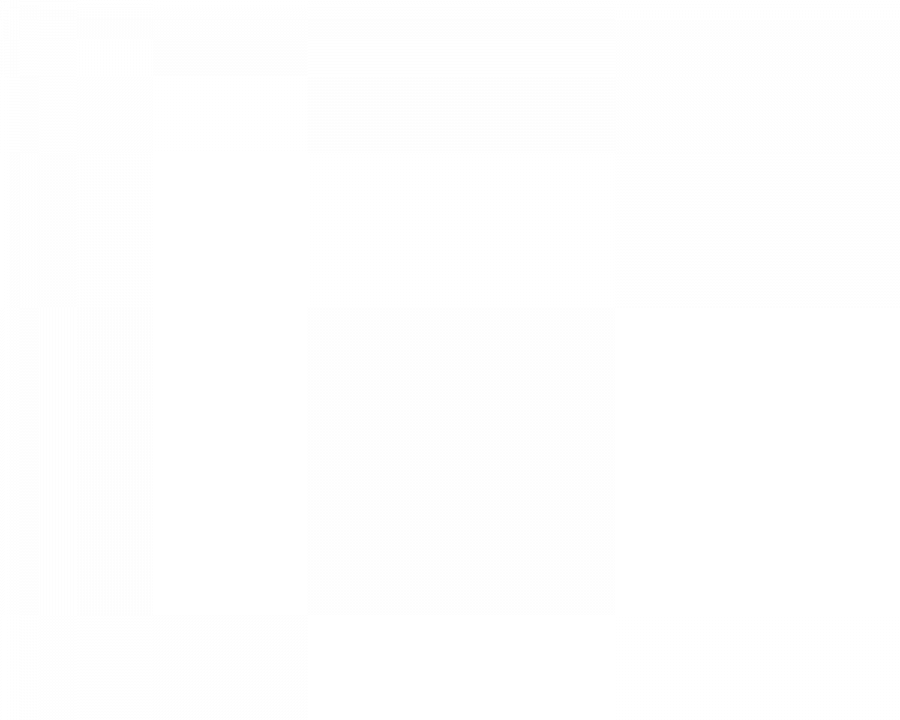
Зигзаги Владика Кружкина
Сказ-винтаж об одном советском поэте-хулигане
- Пакостник
Владик Кружкин, пока рос , не бросался в глаза. Вырос — одурел и стал заметным. На него принялись жаловаться соседи — и потому что он пугал или сбивал с хорошей дороги их и без того трудных детей, и потому что не здоровался и грубил, и потому что вымещал свою молодую злость на дряхлом лифте, который и так едва двигался, а избитый Владиком, и вообще замирал-умирал.
Особенно обижались на Владика общественницы тетя Роза и Нонна Егоровна, которые очень хотели, чтобы у них во дворе и в стране все было хорошо. Владик подтверждал их предчувствия, что молодежь теперь не та и что счастливое будущее, которому они пожертвовали свое прошлое и настоящее, не придет. Их горечь смягчало только одно: у Владика не было друзей, и самое страшное — организованная детская преступность, их двору пока не угрожала.
Владик был всего лишь мелким пакостником. Он мог нахамить или оглушить своей необузданной музыкой из мага, который всегда носил в собой, как чемодан, — в крайнем случае, что-то сломать, разбить или испачкать, однако настолько опасным, чтобы с ним страшно было бороться, он никогда не был. И общественницы с ним боролись.
Но что их борьба? Отругать да пожаловаться участковому, когда Владик уж слишком разойдется. Эти старушки по-детски верили, что милиция всемогуща и в состоянии охладить молодую кровь. Спасение пришло, однако, оттуда, откуда они его совершенно не ждали: с Парнаса. Никто не мог и подумать, что Владика уведет от дурного искусство.
Песни задевали Владика за живое не меньше, чем его родителей, соседей и общественниц — правда, это были совсем другие песни. Если пели о любви, родине и геройстве, он и не слышал. От чего он трепетал, как флаг на ветру, это от юношеских фальцетных проклятий, подстегиваемых бешеными электроинструментами. От такого пения он светлел лицом: ярость рокеров протекала через него и уносила с собой его собственную, что скопилась под кожей, и, промытый, он на час-полтора добрел.
Происходило еще что-то важное. Слушая свои любимые рок-группы, Владик освобождался от тайного стыда, что он бесчувственный. Сколько раз он это слышал, особенно от матери: «пень деревянный», «бессердечная дрянь» и тому подобное. Он отвечал на ругань противным смехом, а сам сжимался от поднимавшегося в душе детского ужаса: он не такой, как все, что-то в нем отсутствует или недоделано.
Он и в самом деле не чувствовал того, что полагалось: любовь к матери, жалость к животным, желание быть полезным обществу или там возмущение негодяями, обижающими слабых. В то время как другие от всего такого менялись в лице, в нем ничего не шевелилось. И ему самому было жутко от своего изгойства. Когда Владик вырос и стал поэтом, чувство, что он не такой как все, вызывало у него уже не страх, а гордость. А может он, того не сознавая, и стал поэтом, чтобы превратить страх в гордость?
- Музыка
Любовь Владика к музыке была похожа на помешательство. Началась она внезапно, когда ему было 14 лет, с незначительного, казалось бы, инцидента.
Шел Владик как-то проходными дворами, и вот в одном из них его прострочило, как пулеметная очередь, пение, вылетавшее из открытого окна: там крутили маг. Пел мальчишка, не иначе как испорченный, пел на надрыве. Его голос, нечистый и жидкий, норовил выпрыгнуть из музыкального сопровождения, он рвался, метался, кидался стремглав во все стороны, дребезжал, скрежетал, сужался до писка, взрывался воплями. Это была баллада «Ах вы, гады!» группы «Аскеты», как нехотя буркнул парень из того окна на вопрос Владика, после чего он свое окно захлопнул.
Торчать дальше в том случайном дворе Владик не стал — ушел. Ушел раненый, растревоженный. Внутри перекатывались волнами то горечь, то сладость. И вдруг до него дошло: это было как раз то, что называют «чувствами». Выходит, и у него они имелись, только спали. Музыка — злая, заводная — могла их будить.
После того случая Владик совсем перестал учить уроки и полностью отдался охоте за записями музыкального самиздата. Уже через полгода его личная фонотека была одной из лучших в Москве, и крутил он свою музыку на собственном «Грюндинге». Фантасмагорическая среди зловещих портретов вождей и кроваво-красных коммунистических полотнищ рок-партизанщина исцелила Владикину душу от паралича.
Просто слушать взрывные ритмы и подстрекательные слова было Владику мало. Заводя любимые пленки, он всегда пел вместе с группой, давая волю своему крику, визгу и мимике с жестами. Его разведенная, несчастная мать от таких бесчинств психовала и гнала Владика из дома — у них была одна комната на двоих в коммунальной квартире.
Владик шел в дворовый скверик, где его облипали ребята. Они принимались петь и кривляться вместе с ним. Этого Владик не любил: он предпочитал индивидуальные экстазы. От назойливых мальчишек, а особенно, девчонок, было не отбиться, если не напугать. Напугаешь — возбуждаются окружающие бабки-матери, а то и отцы-деды. Ну и, конечно, общественницы — железобетонная тетя Роза и визгливая Нонна Егоровна, которые всегда на горячих точках двора. И опять гонят Владика, теперь уже обратно, домой. И не дадут уединиться в подъезде, даже если он приглушит маг, — все равно услышат ненавистные им песни и гонят Владика дальше, вверх по лестнице, до его четвертого этажа, грозя разбить «Грюндинг».
Маг был для Владика всем. Он увел его у незнакомого паренька на каком-то многолюдном дачном концерте и жить без него не мог. Любовь Кружкина к музыке не признавала ограничений, особенно моральных. Воровал, спекулировал, надувал кого мог, чтобы покупать пленки. Вот таким стал ушлым, но против дворовой общественности был бессилен. Она его оскорбляла, унижала, не давала жить и петь. Он, конечно, не мог знать, что и дворовая общественность чувствовала себя перед ним бессильной, оттого так и злобствовала. Ну а если бы знал, стало ли от этого ему легче?
- Котлован
Легче Владику стало, когда сломали незаконные гаражи и сарайчики за их домом, что было победой той же дворовой общественности над единоличниками без стыда и совести. На расчищенном пустыре сразу же вырыли котлован для постройки еще 20 лет назад запланированного культурно-спортивного комплекса: наверху — кинотеатр, внизу — бассейн. На том дело и кончилось, и действующие лица, как побитые, так и торжествующие, перебросились на другие объекты строительства, борьбы, общественной работы и индивидуальной хозяйственной деятельности.
Котлован был глубокий, с неровным дном, метров пятидесяти в диаметре, днем — тоскливый как лунный кратер, когда стемнеет — зловещий. Взрослые обходили его стороной, дети, наоборот, сбегались туда со всей округи, чтобы делать то, что при взрослых нельзя. После того как одиннадцатилетняя девочка сломала там себе позвоночник, котлован обнесли забором.
Малышня схлынула, интерес же старшеклассников к котловану возрос. Они забирались туда курить, распивать, выяснять отношения, становиться мужчинами и женщинами. Временами были в котловане драки за раздел территории, но нечасто: места хватало для всех. Нашел его себе там и Владик Кружкин, которому было к этому времени шестнадцать с хвостиком.
У края котлована стоял навесик, оставшийся от строителей. Его и облюбовал себе Владик, и все знали, что то место — Владикино. Он натаскал туда ящиков и отгородился ими от происходящего вокруг. Несколько ящиков Владик разломал и выстелил дощечками пол под навесом. Был у него еще ящик-стол и ящик-табурет.
Теперь, наконец, Владик мог беспрепятственно дать себе волю, никому не действуя на нервы, — облегчение и для него, и для его матери, и для двора. Уж не такие дуры были тетя Роза и Нонна Егоровна, чтобы не понять общественную пользу Владикиного навеса, и теперь уже просили участкового не трогать Кружкина при облавах, регулярно устраиваемых для профилактики малолетней преступности. Не знал этого Владик и вместе со всеми кидался в атас, заслышав грубые голоса и наступательный шум. И каждый раз чувствовал себя везучим, когда возвращался на свое место и обнаруживал его нетронутым. И поскольку ему «везло» все время, стало в нем расти чувство своей исключительности, с которого начинается каждый поэт.
Первое время Владик только слушал пленки и пел. От частого повторения острота песен стиралась, и они задевали его все меньше. Не появлялись больше царапины на твердой корке его души, не просачивались наружу запертые в ней чувства, и поднималось душевное давление — тоже своего рода гипертония. Владик снова страдал.
Был ли это инстинкт самосохранения, исключительной развитостью которого знаменит гомо сапиенс, или то была случайность, что навела Владика на мысль обновлять тексты его любимых песен? Так или иначе он принялся без всякого повода переставлять в них слова, заменять одни выражения другими, чтобы заострить стершиеся грани смыслов. Главную песню «Аскетов» «Ах вы, гады» Владик настолько переиначил, что она стала совсем другой, и его собственные слова нравились ему больше аскетовских. Владик возомнил себя поэтом.
Возгордившийся Кружкин нашел «Аскетов» и показал им обновленных «Гадов». Теперь это были даже не «гады», а «паты», и смысл песни сводился к тому, что все, в кого ни вглядеться, — патологические личности: и отцы и дети, и ученые и неучи, и начальники и работяги, и трезвенники и пьянь .
«Аскетам» очень понравилась Владикина идея дать их замусоленному коронному номеру вторую жизнь. «Паты, паты, паты…» были включены в новый цикл группы, и успех песни превзошел ажиотаж вокруг «Ах вы гадов». «Аскеты» стали заказывать Владику все новые тексты, и он их охотно мастерил. Многие шедевры этой популярной группы — на Владикины слова. Это и «Кривятся дорожки», и «Щербатая кукушечка», и «Вот ползу я на левом ухе за горизонт». А разродился Владик своими знаменитыми детищами все в том же котловане.
- Слава
Ах, тот плодоносный котлован, вольготный оазис для неблагородных растений и неблаговидных поступков. Созерцая развороченную почву, Владик отдавался беспочвенным мечтаниям. Он видел себя большим, быстрым, лучистым, опасным, всемогущим, бессмертным, и всегда один на один с врагами — ненавистными совками, навязывающими всем свою угрюмую жизнь. Смелые, дерзкие образы захватывали Кружкина, и его рука с зажатой в ней ручкой бросалась вдогонку за разбегавшими во все стороны фантазиями.
«Аскетов» в те чадные годы знали все, Владика же — практически никто.
Публика думала, что руководитель группы сам пишет и музыку и слова. «Аскеты» ничего не делали, чтобы восстановить справедливость. Какой им был интерес заботиться о славе постороннего им сочинителя, да еще такого заносчивого, как Владик?
Пять лет Владик это терпел, потом порвал с «Аскетами», решив больше не быть поэтом-песенником, а стать поэтом. И стал, да еще выделился в кругу самиздата как авангардист-экспериментатор. Вольнолюбивый Кружкин восстал против всех правил стихосложения — он даже против грамматики бунтовал: все только по-своему.
Слава пришла, а деньги, естественно, — нет. Всем замечателен самиздат, только вот материально вознаградить независимую творческую интеллигенцию не в состоянии, — только морально. Насмотрелся Владик на ветеранов андерграунда, издерганных, измученных борьбой за существование, и решил проникать в государственную литературу — чтобы и восхищались и платили. «В подполье спины тоже не остаются прямыми! — отбивался он потом от обвинений в комформизме в одном из своих интервью. — Сколько их согнулось из-за куска легендарного русского черного хлеба!»
Смекалка помогала Владику всегда. Сообразил он, что в советскую поэзию допускаются для колера сорванцы. Они не только постоянно на виду у публики, но еще и кое-кто из руководства их балует. В общем, завидная это была профессия – поэт-сорванец, и Владик чувствовал к ней призвание. Оставалось только выскочить торпедой из подвалов самиздата на полированную поверхность официальной словесности. Здесь помог Кружкину
случай.
Затевался вечер молодежной поэзии в институте пищевой промышленности, где учился один из знакомых ему рокеров. Он устроил так, что и Владика включили в программу. Кружкин держался во время выступления вызывающе, издевался над залом. Публика в конце концов вышла из себя и стала необузданной. Организаторы, впервые в жизни столкнувшиеся с общественным скандалом, растерялись и не смогли восстановить порядок. Пришлось им раньше времени закрывать вечер.
Происшествие попало в одну из газет, и о нем заговорили на московских кухнях, чего и жаждал молодой поэт. В это же время уходил на пенсию озорной главред одного из толстых журналов. Видимо, захотелось ему напоследок выкинуть фокус, и он напечатал пару Владикиных стихов, чем подбавил жару в огонь.
За Владика взялись критики. Что только о нем ни писали: и «зарвавшийся дилетант», и «головотяп от поэзии», и «недоучка-пересмешник», и «разгулявшийся Митрофанушка», и «разгулявшийся Ноздрев». Но сравнивали и с Маяковским, и даже с Хлебниковым. Прогрессивное крыло писательской организации взяло Владика под защиту и, дразня вражеский лагерь, устраивало ему публикации у своих редакторов.
- Упадок
Как же так, недоумевала дворовая общественность, до которой докатилось эхо Владикиной славы, — да он же обыкновенный хулиган! И, обидевшись, добилась того, чтобы возобновили строительство уже всеми забытого культурно-спортивного комплекса. Судьбоносный навесик Кружкина снесли. Вроде бы и невелика потеря для преуспевшего поэта, но это лишь если глядеть со стороны. Владик стал словно подстреленный, увидев в своем котловане самосвалы и другую уродливую технику, предводимую такими же, как и она, железными людьми.
Влиятельные покровители помогли и в этот раз молодому поэту, лишившемуся своего рабочего места. Они нашли для него роскошную дачу под Москвой. Но душевная боль у Владика там не прошла: как заболела его душа из-за котлована, так и продолжала болеть, несмотря на окружавшую его теперь красоту.
Хороша была та дача — двухэтажная, изумительно обставленная, с большим садом. Была она полностью в распоряжении Владика. Владелец, бездетный посол, жил с женой в Южной Америке, и все равно что не существовал. Казалось бы, ведь так повезло Владику — чувствуй себя хозяином, живи да радуйся, работай да отдыхай, да нет, замучило его на той великолепной даче уныние. Вдохновение, приходившее к нему в котлован, на даче не появлялось. «Уж не приходило ли оно из котлована?» — спрашивал себя страдавший бесплодием поэт.
Кто вообще знает, откуда приходит вдохновение? Это ведь только говорят , что с небес. Если же Владикино вдохновение и правда было исчадием котлована, то происшедшее иначе как крахом не назовешь: ведь того котлована уже не было. «Надо просто взять и найти другой!» — озарило, наконец, Кружкина. И он, договорившись с участливым поэтом-переводчиком Федором Михайловичом, у которого имелся свой «Жигуленок», стал вместе с ним искать новый котлован.
Ездили по Москве, заезжали в пригороды и видели много, прямо-таки невероятно много разрытых пустырей, даже такие, которые были очень похожи на
потерянный Кружкиным котлован, но нигде его сердце не екало, не холодело, не воспламенялось.
Отзывчивый Федор Михайлович горевал, возмущался из-за бесхозяйственности, варварства, наплевательства, Владик же был холоден и зол: вся эта суета оказалась впустую. Кончилось тем, что он нагрубил Федору Михайловичу, прекратил поиски, закрылся на даче дипломата и, как всякий страдающий русский человек, запил.
Запой его был неумелым, грубым, прямо-таки зверским. Владик стал страшен. Покровители испугались за дачу и, во всем ловкие люди, устроили так, что поэт оказался в дурдоме. Месяца три глушили там у Владика нежелательные душевные порывы и выпустили его в мир скромным молодым человеком.
Мать приняла сына обратно по-человечески. Она тоже притихла после Владикиных зигзагов. Сидели теперь вечерами дома вдвоем, смотрели вместе телевизор. Оба предпочитали чувствительные фильмы. Глядя на переживания киногероев, то она смахивала слезу, то он. А вот над комиками никто из них не смеялся. Вобщем, выглядели они меланхоликами, словно жить им было скучно и утомительно. Да так оно и было, конечно. Но жили, да мало ли таких, кому скучно? Можно и со скукой жить.
Умер Брежнев, умер Андропов, умер Черненко. На экране допотопного «Рекорда» Кружкиных возникали новые личности и призывали всех сообща выйти из застоя и жить по-другому. Владик и его родительница слушали их с той же поволокой в глазах, как прогноз погоды. Жить по-другому они стали лишь тогда, когда к ним принялся приходить дядя Лев, работавший вместе с Владикиной матерью и привязавшийся к ней.
Дядя Лев — именно «Лев», на «Леву» он сердился — был никому неинтересный пожилой вдовец, искавший семейного уюта. У Кружкиных, в их общей комнате, ему было лучше, чем в своей пустой отдельной квартире. Владикина мать уже не была волевой и дядю Льва не прогоняла — ходит и пусть.
Благодарный дядя Лев старался растормошить хозяев: рассказывал анекдоты во время ужина, ругал политиков и киногероев, когда смотрели телевизор. Взвинченный тенерок гостя раздражал Владика. Однажды он взорвался — и тут-то ожил. Дядя Лев не понял, что добился своего. Он обиделся на грубияна и перестал приходить. Обиделась на Владика и мать, подумавшая было, что кончилось ее женское одиночество. Дома стало совсем плохо. Мать теперь часто кидалась на Владика, обзывала его нахлебником. Наконец это ему осточертело, и он устроился на работу в котельную.
- Котельная
Это оказался удачный ход. Появились и свои деньги, и свой угол. Дежурство было ночным, с восьми вечера до восьми утра, когда три, когда четыре раза в неделю. Свободные ночи были Владику не нужны, и он договорился со сменщицей, худенькой, вялой девушкой Кирой, что станет за нее дежурить, а Кирину зарплату они поделят пополам. Кира сразу согласилась. Не возражала и начальница котельной, которой даже было лучше, что техника окажется под присмотром мужчины, а не сомнительной Киры.
У Владика началась новая счастливая жизнь. «Счастье» происходит от «части», и связь этих двух понятий — одного, предельно простого, и другого, предельно сложного, — озадачила Владика, когда он об этом задумался. Будучи один в своей котельной, он наслаждался покоем и много размышлял.
Его изменившееся ощущение жизни уже само по себе наводило на раздумья: ведь ничего особенного — только простая работа и мирное пристанище, а ему хорошо, как никогда. И ничего другого не хотелось. Всплывали, конечно, всякие мелкие желания, не о них речь. Не было порывов, соблазнов, страстей, сталкивающих с жизненного основания, выбивающих из равновесия. Владик вспоминал прошлые душевные вихри, а также свою бурную литературную жизнь и поеживался.
Ах, милые обывательские радости той осени. По дороге на работу Владик покупал хлеб, молоко, сырки, если попадались — сосиски и что-нибудь к чаю. Его дневные сменщицы, две хлопотливые матери-хозяйки, всегда добавляли к этому чего-то из того, что они варили по утрам семье на ужин: когда — борща, когда — картошечки с котлеткой или каких-нибудь там макарон по-флотски.
И другие женщины котельной — а работали в ней кроме Владика почему-то одни только женщины — баловали своего единственного мужчину. То одна приносила пирожков, то другая заливной рыбки, сделанной по какому-то праздничному случаю. Уютно и задушевно было Владику со своими сотрудницами, да и им было приятно опекать его, неприкаянного, — у них от этого душа теплела.
Даже Кира, девица «не то не се», подкармливала Владика. Они встречались два раза в месяц, в аванс и получку, и, вручая Владику обговоренную половину своих денег, Кира давала ему хорошей колбасы или импортных мясных консервов — у нее был друг в мясном магазине.
Каждый вечер, оставшись один в котельной, Владик первым делом ужинал. Техника много внимания от него не требовала, и после ужина он ставил раскладушку, чтобы подремать часок на сытый желудок — новое для него удовольствие. Потом заваривал чай, читал, размышлял.
Раньше он хотел только писать, и ничего не читал, теперь — наоборот. После дурдома он не написал ни строчки. Мысли и чувства у него вновь задвигались, однако желание отдавать их в общее пользование не возвращалось. Одиночество — вот что теперь увлекало Владика.
А уж одиночество, как оно у него устроилось, — благополучное, с книгами, на безопасном расстоянии от общества, — было идеальным, лучше не придумаешь. Общество виделось ему нелепой «кучей-малой» и барахтаться в ней его совершенно не тянуло. Владик чувствовал себя всюду посторонним наблюдателем, и эта роль ему нравилась.
А еще он полюбил бродить по Москве. Однажды попал на книжный черный рынок. Из любопытства стал смотреть, кто что продает-покупает. Там ему попалось на глаза самиздатовское «Голодание» Брэга, которым в то время все увлекались. Только он получил его в руки, чтобы полистать, как началась облава. Чернорыночники бросились спасаться в разные стороны, побежал куда-то, поддавшись общей панике, и Владик с Брэгом в руках. Так оказалось в его растущей личной библиотечке «Голодание», и этот курьез изменил его жизнь.
- Очищение
В тот же день, во время дежурства, Владик принялся читать чудом доставшуюся книгу и не смог от нее оторваться. Брэг заворожил его своими идеями о достижении суперменства через аскетизм. Жизнеощущение зависит от биохимии, утверждал популярный американец. Запущенный организм не даст по-настоящему испытать радость жизни. Вредные вещества, попадая в кровь из пищи, воды и воздуха, по мере накопления портят и здоровье и характер.
Сам Брэг был прежде больным, брюзгливым человеком. Регулярные посты и легкая растительная диета преобразили его, и он учил теперь других, как изменить себя и свою жизнь, не дожидаясь счастливых случаев и помощи со стороны. Возможность для каждого таким простым, домашним способом стать сильной, независимой личностью была захватывающей. И Владик принялся все делать по Брэгу.
Первым делом он стал вегетарианцем. Пришлось отказаться от снадобий сердобольных сотрудниц. Те сочли это за дурь и долго не верили, что можно жить без мяса. «Ты же мужик, — говорили они ему с укоризной, — у тебя же силы не будет». И сколько Владик им ни разъяснял, что так думать — предрассудок, сколько ни рассказывал о трупных ядах, канцерогенной химии и разной грязи, заглатываемой вместе с котлетой, их вера в мясо оставалась непоколебимой. Мясо для них было святыней, а речи Владика — глумлением.
Обижало женщин котельной и то, что их заботы стали ненужными. Уж как они любили подкармливать Владика — и вот им вдруг отворот поворот. Вобщем, отношения у Владика с сотрудницами испортились. Только Кира отнеслась к его вегетарианству с уважением, даже больше того.
Она теперь приходила в котельную не только в дни получки, но и вечерами, во время Владикина дежурства. Сначала искала предлоги, потом приходила уже и просто так — посидеть, попить чайку, поговорить. Владику это было вначале в тягость, но ничего, привык. Стало даже приятно рассказывать Кире о захватывающих идеях, которые он вычитывал в книгах. А читал он после Брэга еще и индийского философа Шанкару, и Коран, и разные руководства по медитации.
В последнем он нашел священную мантру — сочетание из трех санскритских слов, которое полагалось повторять с закрытыми глазами по часу в день, чтобы очистить дух. Это он решил, впрочем, приберечь на будущее: сначала требовалось очистить тело. Владик верил Брэгу: в нечистом теле невозможны чистые мысли. И он взялся выводить из себя всю эту мерзость, осевшую на стенках его пищеварительного тракта, накопившуюся в крови, печени, желчном пузыре.
Начал с 24-часового голодания раз в неделю, как и советовал Брэг. Первый раз было много борьбы с самим собой, вернее — с анархиствовавшей частью сознания. Однако другая его часть — волевая, неумолимая — взяла верх. Как только внутри раздавался бесшабашный призыв наплевать на голодание и съесть что-нибудь любимое, Кружкин брал стакан воды и выпивал его до дна. Пил еще и еще, пока не затихала внутренняя разноголосица, и достойно выдержал свой первый пост. Ну а потом уже было легче.
Однажды взялась голодать вместе с ним и Кира. Тронуло это Владика. Кира делала все в точности, как он ее учил, и держалась молодцом, хотя ее весь день мутило. «Ученица»,- подумалось Владику, и в душе приятно потеплело. Очень ему понравилось это слово, а главное — подходило оно Кире.
- Ученица
Кира была тихой и послушной, могла внимать ему подолгу, не перебивала, не спорила, лишь просила иногда что-то дополнительно объяснить. И как-то само собой стал Владик называть Кирой мысленно «ученицей», а потом раз это словцо сорвалось у него с языка. «Хорошо, ученица», — похвалил он по какому-то случаю Киру и заметил, что она порозовела от удовольствия. С тех пор только так Киру и звал, и говорил о ней другим»моя ученица». Себя же называл «натурофилом».
Очищение увлекало Владика и Киру все больше и больше. Оно стало мало помалу их главным делом. Они провели вместе пару трехдневных постов. Во время голодания пили травы, ставили себе промывающие клизмы. О грязи, выводимой из организма, рассказывали друг другу подробно, если выходило что-то необычное или непонятное, смотрели вместе, без смущения и брезгливости, как два исследователя.
Владик выискивал все новые способы и средства. Нашел в Университете Патриса Лумумбы индийца, который научил их очистительному дыханию. От него же узнали и как вычистить печень. Метод индийца, вроде бы взятый из ауроведы, был, что не говори, варварским. Сначала полагалось выпить полстакана оливкового масла, потом полстакана неразбавленного лимонного сока.
Владик и Кира это все же попробовали. Ничего хорошего не получилось: желудок столько масла принять отказался и выбросил его обратно. Были и другие неудачи, но духом они не падали — пробовали опять и опять, не то так это, не другое так третье. И так чистились и чистились в серой зимней Москве. Условия в котельной были для этого прекрасные: тепло, все помещения с восьми вечера до восьми утра в их распоряжении. Там имелись и электроплитка, и холодильник, и даже душ.
Кира приходила и уходила, когда в котельной никого не было. Общее дело сблизило с ней Владика. То, что он держался с Кирой не на равных, а как вышестоящий, не мешало, а наоборот, усиливало их взаимотяготение: Владик нашел нужное ему восхищение, а Кира — опору, без которой пропадала.
Была Кира бледненькой и гниловатой не потому, что такая уродилась, а потому, что глотала и нюхала всякую дрянь. Когда она открылась в этом Владику, он сказал ей строго: «С этим должно быть покончено. Или те забавы, или наше дело.» Кира бросила свои тусовки, и стали они с Владиком неразлучными.
Днем шли к нему домой, вечерами были в котельной. Так они договорились: первое время Кира будет постоянно под присмотром Владика, потому что ей одной соблазнов было не выдержать. Лишь часа полтора вечером, когда Владик уходил на дежурство, да час по утрам, когда Кира убегала из котельной до прихода новой смены, были они врозь.
Подошла весна, и Владик заговорил о «большой чистке» — десятидневном посте. «На седьмой-восьмой день произойдет очищение крови и слизистых оболочек», — рассказывал он Кире с воодушевлением. Ей было страшновато — она и трехдневные голодания переносила с трудом: болела голова, лихорадило, тошнило. «Это хорошо, — ободрял ее Владик. — Это твои яды выходят».
Вот этих своих ядов его ученица и боялась — как выдержать десять дней? Договорились начать «большую чистку» третьего марта, и по мере приближения этой даты Кира становилась все угрюмей. Владик не придавал этому значения, и, как обнаружилось, зря.
- Большая чистка
Вечером 2 марта Кира вдруг не пришла в котельную. По дороге на дежурство Владик расстался с ней, как обычно, до девяти, и вот на часах было уже десять, а Кира все не появлялась. Такого еще никогда не было. Владик съел в одиночестве свою долю ужина, приготовленного на двоих, после чего позвонил Кире домой, потом в «скорую» — нигде никаких следов. Оставалось думать о самом худшем — так оно и оказалось.
Третьего марта был аванс. Владик заехал, как всегда, перед обедом получить деньги. Кира уже была в котельной и ждала его. «Денег больше не дам», — заявила она ему с неизвестной прежде развязностью. Почему такой оборот дела, спрашивать не требовалось — одного взгляда на Киру было достаточно: нечесаные волосы, опять та прежняя зеленоватая бледность, взгляд как штык, сама же — расшатанная. Владик не стал с ней разговаривать, получил свой аванс и ушел.
Вечером того же дня Кира опять пришла в котельную. Выглядела она еще хуже, чем днем. Встала в дверях подсобки, где сидел Владик, глаза опущены. Потом у нее задрожали губы, потекли слезы. Она осела на пол и разрыдалась грубым голосом. Владик хладнокровно наблюдал за Кирой. Нарыдавшись, она сжалась, как ребенок, но и в таком виде она Владика не разжалобила.
Как только в подсобке стало тихо, он вернулся к прерванному чтению. Увидев это, Кира вновь принялась всхлипывать. «Уходи!» — сказал ей Владик. Она же, будто подшпоренная, бросилась в объяснения, без конца повторяя, что ее подло заманили в ловушку.
Вроде бы она вчера, по дороге к Владику, случайно встретила своего друга из мясного магазина. Он предложил ей пару банок австрийской ветчины, а когда она отказалась, принялся расспрашивать, почему. Пришлось Кире рассказать ему об очищениях. Ее друг очень этим делом заинтересовался, стал уговаривать рассказать о ее новой жизни и ребятам, причем не откладывая, немедленно. И так он ее горячо упрашивал, так давил на сочувствие, расписывая, как доходят ребята последнее время, что Кира не выдержала и поддалась его уговорам.
Когда приехали к ребятам на квартиру, все было сначала хорошо. Киру слушали с интересом, задавали много вопросов, а потом один из ребят сказал ей: «Интересно, а как тебе сейчас покажется травка». И все принялись уговаривать Киру курнуть чинарик и рассказать, изменилось ощущение или нет. Ну она и курнула. Остановиться потом уже не могла.
Владик Киру не перебивал. Когда она кончила, сказал коротко: «Я тебя предупреждал. Рах нарушила наши правила, то все кончено». И опять уткнулся в книгу. А когда Кира вновь засопела, встал, взял ее за рукав, вывел из котельной и закрыл за
ней дверь на засов.
Было уже десять вечера — время, когда Владик планировал начать первые процедуры «большой чистки». Убедившись, что Кира ушла, он сделал себе клизму, потом еще дополнительно промыл кишечник травяным раствором, прочистил носовую полость, йоговским приемом откачал затхлый остаточный воздух из легких. Тут его соблазнила мысль попробовать недавно им освоенную «медитацию внутреннего взлета», которая предназначалась для очищения духа.
Принцип был вроде бы прост: настроиться на высшее, сосредоточиться на нем и на какое-то время оторваться от всякой ерунды, набившейся в голове. Но не тут-то было — этой «ерунды» оказалось так много, да и была она такой цепкой, что избавиться он нее не удавалось. То вклинивались мысли о делах, которыми предстояло заняться, то вспоминались неприятности с ученицей, то отвлекал шум. Охватывало и отчаяние, в смысле: «господи, сколько же мусора в голове».
Но ничего, Владик держался и снова принимался за мантру » внутреннего взлета», если с нее сбивался. Наконец, позволил себе остановиться и открыл глаза. Думал, что положенные двадцать минут отсидел с избытком, но оказалось, и десяти минут не прошло.
Медитация Владика расстроила. Но долго киснуть себе он не дал — знал из самоучителя «медитации внутреннего взлета» о важности положительного настроя. Сказал себе: «Надо срочно браться за мозг», и эта установка его успокоила: вычистить в принципе можно все. Кружкин тут же решил два раза в день проводить медитацию по полчаса, засекая время по будильнику. «Большая чистка» становилась еще более многообещающей. Владик видел себя после нее, через десять дней, совершенно обновленным, этаким сверкающим, как бы инопланетянином.
Эта яростная устремленность на хорошее зарядила Владика такой бодростью, что он не смог заснуть. Неподалеку от него, на квартире у друзей, не могла заснуть и отвергнутая им ученица. Вся компания спала, она же сидела одна-одинешенька на кухне в темноте, и так болело у нее в груди, что даже травка ее не брала. Ничего не помогало от той боли, только нехорошие мысли приносили облегчение.
- Ураган
Через десять дней, поздно вечером, Владик выл от отчаяния на путях Киевской железной дороги. Вой был безобразный, нечеловеческий — так воет бедняга, потерпевший кораблекрушение и качающийся на обломке корабля посреди океана. Плыл человек, куда хотел, и вот налетел ураган, и не стало ни корабля, ни маршрута. Суждено было испытать такое и Владику. Осталась у него после урагана невыносимая боль в груди, как тогда у Киры. От Киры эта боль и была. Ураган-то назывался Кира.
Налетел этот ураган утром, на второй день «большой чистки», когда Владик входил в подъзд своего дома, возвращаясь с дежурства. Там подстерегала его ученица, вооруженная пульверизатором с нашатырным спиртом. Прыснув нашатырь Владику в лицо, она опрокинула его на пол и стала с бешенством пинать его, беспомощного. Налет продолжался минуту-две. Коротко и свирепо отомстив за обиду, ученица убежала.
Ошеломленный, избитый Владик остался лежать на полу. При падении он сильно стукнулся головой, и она болела. Горело изуродованное лицо. Кто-то из соседей по подъезду помог Кружкину подняться и добраться до квартиры. Он как забрался в постель, так и пролежал в ней весь день. Спертая, смрадная уголовщина, вломившаяся в его жизнь, потушила в одно мгновение все огоньки, на которые он ориентировался: разум оказался бессилен перед бушующими в этом мире стихиями, и зло издевательски победило добро.
Под конец дневной смены Владик позвонил начальнице предупредить, что заболел и не придет. «Да ведь сегодня Кира! — удивилась та. — Она мне сказала, что вы теперь будете дежурить по очереди, как полагается…»
Мать, вернувшись с работы, промыла сыну лицо, на которое он так и не удосужился взглянуть. По тому, как она сурово это делала, было ясно, что вид у Владика ужасный. Он и сам чувствовал, что глаза, нос и губы у него не те, что были всегда. Озверевшая Кира била больше всего по лицу.
Потом мать принесла Владику поужинать, и он не отказался. Съел ее гороховый суп и гречневую кашу, сардельку же отверг. О голодании теперь не могло быть речи, однако возвращаться к мясу было незачем. После ужина Владик написал заявление об увольнении по собственному желанию, с тем чтобы мать на следующий день отвезла его в котельную, и, проглатив полученное от нее снотворное, заснул.
Очередной раз началась у Кружкина новая жизнь. Идти было некуда. Опять мать. Опять нет денег. Читать не хотелось. Вообще ничего не хотелось. Теперь он подолгу валялся в постели, слонялся по квартире, глядел в окно, смотрел без разбору телевизор.
Уже скоро выявились вещи, которые были противнее других. Больше всего не хотелось видеть мать. Кружкин приноровился уходить из дому перед ее приходом с работы и возвращаться у полуночи, когда она уже спала. Получалось шесть часов вынужденного бродяжничества, особенно тоскливого слякотной весной.
Раз Владик забрел на пути за Киевским вокзалом, и там ему понравилось. Что-то звонкое отозвалось в его душе при виде уходящей вдаль дороги. Может, ощущение, что мир большой и незамкнутый, успокоило. Впервые после нападения ученицы Владик почувствовал умиротворение. Он задумался: сколько же дней уже прошло? Подсчитал, и оказалось, что десять. Если бы не эта идиотка Кира, он бы был теперь совсем другим человеком.
Удушливая тоска подступила тут ему к горлу и стала рваться наружу. Никого поблизости не было, и Владик дал ей волю, ожидая, что разрыдается и ему станет легче. К его ужасу, то, что вырвалось, оказалось воем — утробным, безудержным.
- Вагон
Теперь вечерами Владик часто ездил на Киевский вокзал. Оказался он как-то на запасных путях, где стояли старые товарные вагоны. Среди них был один пассажирский, и в нем горел свет. Владик подошел поближе и столкнулся с мужичком, выскочившим из вагона по нужде. Владик подождал, пока мужичок стал застегиваться, и подошел к нему порасспросить. Тот оказался, к счастью, из добродушных, из-за постороннего Владикина любопытства не злился, а лишь смущался.
В вагоне, как выяснилось, жили железнодорожники-лимитчики. Подобных вагонов-общежитий на путях было несколько, размещались они у депо. Этот вагон почему-то стоял на отшибе среди списанных товарняков, и проживали здесь без всяких удобств. Чем больше подробностей узнавал Владик, тем интереснее ему становилось. Он последовал за мужичком в вагон, чему тот, впрочем, сопротивлялся — но Владика было не остановить.
Старшего, с которым непременно хотел поговорить Владик, звали Ахмадом, и он сидел в первом купе за картами в компании из трех мужчин и одной девицы. Горела керосиновая лампа, дух стоял тяжелый, лица были напряженные. Найти общий язык с таким народом для Владика труда не представляло. Он сказал без обиняков Ахмаду, что ищет угол, и тот, ни о чем не расспрашивая, указал ему на пустовавшее последнее купе — занимай мол да живи, место есть.
— А начальство? — не отставал Владик, озадаченный чрезмерной легкостью дела.
— Я — начальство! — заверил его Ахмад, не отрываясь от игры. — Иди размещайся, через час зайдешь!
Это оказалось то, что надо: свой закуток с закрывающейся на предохранитель дверью. Вид из окна пронзительный: безлюдная, мрачная полоса пространства, перерезанного рельсами. И когда вблизи с грохотом пронесся сверкающий поезд, Владика охватил зябкий восторг. «Господи, как истосковалась душа по сильным ощущениям», — отметил он для себя.
И Владик закрепился в том странном вагоне. Он договорился с Ахмадом, что тот к нему никого не подселит. Ахмад же, со своей стороны, потребовал, чтобы Владик взял на себя обязанности уборщика, причем по-честному.
— Я мусульманин, — объявил со значением Ахмад, — и в грязи жить не желаю.
Условились, что пустые бутылки и банки со всего общежития — Владикины. Набиралось их прилично — вот и своя копейка у Владика теперь появилась.
Жило в вагоне человек 10-15. Что за люди — Владик и знать не хотел. Он ни с кем не общался, даже не здоровался, не делая исключения и тому первому мужичку, с которым зашел в вагон. Народ его за это даже вроде как бы уважал.
Лишь с Ахмадом были у Владика отношения. Увидев добросовестность Кружкина в уборке вагона, Ахмад стал давать ему личные поручения — то в магазин сходить, то в прачечную, то еще что. Человек он был солидный, несмотря на то что числился простым ремонтником, и расплачивался за услуги щедро, бывало даже — чересчур щедро. Смущал Владика размах Ахмада. Ясно было, что «начальник» живет какой-то большой, сложной жизнью, и Владик боялся, что он в случайном порыве откроет ему свои тайны. Тогда опять прощай покой и налаженный быт.
А устроился Владик в том неожиданном вагоне прекрасно. Холодновато, правда, было: поскольку его купе было крайним, тепла от печки, разносимого водой по трубам, он получал меньше всех. Но ничего, подогревал себя портвешком. Прежде пить себе не позволял, а вот теперь вроде как приходилось. Оставалось непонятным, как вообще оказался возможным такой замечательный, оторванный от советской жизни, какой-то киношный по своей невероятности вагон, и как терпело железнодорожное начальство это скопление сомнительного люда -вряд ли жители вагона были все железнодорожниками.
Как ни странно, жизнь в общежитии была тихой: сюда приходили только спать. Ахмад запретил устраивать кутежи и приводить баб, хотя сам девушек принимал и с друзьями пировал. Против этих правил никто не бунтовал. Ахмада здесь слушались.
По ночам, когда вагон замирал, Владик зажигал свечу и смотрел на огонь, посасывая портвешок. Он наслаждался маревом у себя в голове, где терялись его мысли. Забираться в дебри памяти, где были боль и удушье, Кружкин себе не позволял. Когда оттуда являлось какое-то привидение — например, Кира с остервеневшим лицом или он сам, горячечный, на полу дачи дипломата, он делал очистительное дыхание по йоговской науке, и неприятное воспоминание пропадало. Затормозив нежелательные мысли, он оставался с хорошим чувством: не напрасно он тренировался, чтобы стать себе хозяином.
Скоро обнаружилось, что свое дыхательное мастерство Владик переоценивал. Обрушилась однажды вечером на него непроглядная тоска и так сдавила грудь, что он едва мог дышать, сколько ни втягивал «космический свет», как учили йоги.
Зимний путник, сбившийся с дороги, изнуренный, замерзающий, увидев огонек вдали, чувствует прилив сил и добирается до пристанища. Вот он, вожделенный момент: теперь можно окунуться в тепло, почувствовать его кожей, вдохнуть в себя. Все сразу забыто — и как мучился только что, и как думал о смерти. Ну а потом вдруг страшная боль: начинают отходить обмороженные места. Такое, по сути, произошло и с Владиком вскоре после того, как он обосновался в вагоне.
Тех привидений из углов, где скопилась боль, было теперь не одолеть. Они росли в числе и бросались в массированную атаку. Вдруг дали о себе знать мучительные детские воспоминания: как били, травили, выпихивали из жизненного пространства, как страшно было одному против всеобщей нелюбви.
Это состояние продолжалось какое-то время, а потом так же внезапно кончилось, как и началось. И установилось затишье. Болевые обстрелы время от времени возобновлялись, но до крайностей темные атаки уже не доходили.
- Новые стихи
Однажды догорела свеча, и Владик остался сидеть без света: другой свечи у него не было. Минут десять было неуютно, беспокойно, но потом он привык к темноте, и напряжение стало падать. Вдруг у него внутри словно открылся какой-то люк. То ли через этот люк что-то вошло, то ли что-то вышло, и Владик почувствовал себя легким, воздушным.
С таким чувством не сиделось. Он отправился, как обычно, ходить по путям. Шел, словно под хмелем. Его подмывало что-нибудь выкинуть, и, не долго думая, Владик запел во все горло, а потом стал махать руками, подпрыгивать, приплясывать, и долго так дурачился. А когда устал, лег на шпалы и стал смотреть на звезды.
Ночь была тихая, волшебная, и почувствовал Владик в душе дрожь. Он не понимал, что с ним происходит. Было и блаженно, и тревожно одновременно. Ни с того ни с сего в этой дрожи ему стали слышаться слова, которые возникали в определенном ритме. Это были стихи — неожиданные, самозванные.
Владик попытался их остановить — зачем они? С поэзией было покончено. Стихи же шли, не слушаясь. Что за чума, почему? Владик вскочил и пошел дальше быстрым шагом по шпалам, все еще надеясь стряхнуть с себя наваждение, но это было так же безнадежно, как и в случае с мифической страдалицей Ио, терзаемой ниспосланным ей оводом.
Набродился Владик в ту стихотворную ночь до полного изнеможения и хорошо спал. Когда же проснулся, в его сознании опять зашевелились вчерашние строчки, одна тянула за собой другую. И он обрадовался: они были очень хороши! Владик взял и записал их.
Вечером история повторилась. Вдохновение и дальше одолевало Владика, и бороться с ним ему больше не хотелось. Он завел опять тетрадку для стихов. А через два месяца не выдержал и послал новые сочинения в редакции, где ему когда-то покровительствовали.
Первым отозвался симпатичный Костя Махловеев, редактор отдела поэзии одного непопулярного толстого журнала. Хороших стихов Косте не посылали. Важные поэты от него отмахивались, когда он просил их хоть четверостишие какое дать для оживления своего безнадежного раздела. Просил Костя и Владика, когда тот славился. Бывало, сидели в одной компании, и Махловеев, по-приятельски толкая Владика плечом, канючил: «Ну выкини фортель, Кружкин, ну что тебе стоит, кинь стишок-другой в шапку».
Любил Владик Костю за горячее сердце, красное словцо и забубенность, но делал, как все: посылал стихи в передовые журналы, а от Кости отшучивался. И вот теперь послал и Махловееву, зная, что он-то наверняка отзовется. И оказался прав: не было других писем Кружкину, кроме Костиного. Владик позвонил Косте.
— То что ты мне прислал – конечно же, нетленка, — заявил Махловеев. — Только ее никто не заметит, если не бросить бомбу. Сейчас ведь народ ничего просто так не читает, это не то что раньше, когда он застаивался. Короче, дашь острое интервью в связи со своим возвращением в литературу. Это сейчас модно: все возвращаются, возрождаются, оживают, прозревают, вобщем понимаешь. Ну а к твоей исповеди или там отповеди мы пристегнем твои новые стишки. Есть тебе что выдать, к примеру, о современной литературе?
Владик выругался.
— Вот-вот, — поддержал его Костя, — так и скажи, только литературно.
Кружкин сделал так, как указал Махловеев. Ему ли не раззадорить литературную публику! Дальше история повторилась: перебранка в прессе, интриги, приглашения, хищный дамский интерес.
Приятно было подразнить гусей из такого прекрасного убежища, как Ахмадов вагон. Только просчитался Владик, думая, что его там не найти — нашли, и повалил к нему разный народ, большинство — дамы. Посмотрел на это Ахмад и сказал Владику:
— Все. Забирай свое барахло и будь здоров.
И даже слушать не стал Владикиных обещаний — такой он был решительный человек.
Освободил Владик свое купе и опять стал бездомным. Правда, ненадолго. Теперь желающих участвовать в его судьбе, особенно женщин, было больше, чем достаточно, и в скором времени Владик мог располагать изумительной однокомнатной квартиркой у Каменного моста: большая площадь, шестой этаж, вид на Кремль.
- Лаборатория
О таких роскошных хоромах Кружкин и не мечтал. Дал выкрасить стены в белый цвет, чтобы было светло, как в лаборатории. По его заказу сделали ему длинный стол на козлах. Он нужен был Владику, чтобы раскладывать, не смешивая, разные черновики, если придется работать над несколькими вещами сразу. А что так оно и будет, он не сомневался: бурлили в нем несколько потоков, и все сильные, рвущиеся одновременно наружу. Пока он не давал им волю: вот устроится совсем, закроется и уйдет с головой в работу.
А какое рабочее место себе устроил! Не просто письменный стол приобрел, а взял себе мягкий, кожаный диван, в правый подлокотник которого для него встроили маленький столик по его собственному чертежу. Заграничный, элегантный, этот диван был списан хозотделом МИДа и достался Владику через цепочку дам-поклонниц. Поэт поместил его напротив окна и приставил к нему еще пуфик, собираясь во время работы то сидеть и по-турецки, как он любил, то полулежа, если ноги затекут.
Бывает, как начнет везти, так идут удачи одна за одной. Владик не только все устроил в своей «лаборатории», как хотел, но еще и приобрел машину по счастливой случайности. Обратился он по старой дружбе к Федору Михайловичу, когда надо было кое-что перевезти, а тот ему сообщает: продаю своего «Жигуленка», деньги нужны. Разве можно было упустить такую оказию! Нашел Владик недостававшие деньги и купил «Жигуленок» у поэта-переводчика, а потом записался в очередь на курсы автовождения.
Наконец все в «лаборатории» было готово, и можно было начать работу. В то первое утро Владик встал рано, по будильнику. Сварил кофе и устроился с чашечкой на своем замечательном диване. Вся эта милая душе обстановка, вид из окна и сам момент волновали его. Внутри задвигалось, зазвучало. Владик взял со столика приготовленные для творчества ручку и блокнот, стал записывать.
Первая строчка была хороша, под стать ей вышла вторая, однако третья пошла не в ногу, и подогнать ее под ритм не удавалось. Четвертая строчка получилась куцей и тощей. Поэт напрягал мозг и продолжал упрямо сколачивать строфу. Бился с ней бился, разнервничался и бросил. Пошел варить кофе. Пока сварил, выпил, интерес к строфе совсем пропал. Подождал новых волн и не дождался. Отправился тогда поразмять ноги. После прогулки работать Кружкину уже совершенно не хотелось.
То же самое повторилось и на следующий день. Так пошло и дальше. Вдохновение лишь искрилось, не больше. Искры вспыхивали и гасли. Редакторы ждали от Владика обещанных циклов стихов, и от этого он еще больше нервничал, ибо сроки истекали, а предложить было нечего.
Каждое утро Владик усаживался на своем диване, как нельзя лучше предназначенном для записи вихрящихся строк. Увы, ничто пока не предвещало тех, как казалось, обеспеченных лирических метелей. Свою тягу к перу и бумаге он оценил неверно: принял пустую нервную лихорадку за вдохновение. И опять, как тогда, после котлована: прекрасные условия для работы, зеленый свет в редакциях, все вокруг ласковы и услужливы, никаких забот, проблем со здоровьем, денежных трудностей — пиши да радуйся, радуйся да пиши, но нет, поднимется в душе какой-то мусор и осядет.
- Голодание
Спустя некоторое время приснилось Владику, будто идет он по Красной площади к метро «Площадь Революции». От собора Василия Блаженного до Исторического музея, как всегда, суетились фотографы. В этот раз они были особенно нахальные, без конца останавливали Владика, убеждали сняться. Владик от них отбивался и шел дальше. Вдруг он услышал за спиной многоголосый хохот. Обернулся и видит: собралась толпа вокруг одного из фотографов и все вырывают друг у друга какую-то фотографию. Сердце у Кружкина екнуло: почувствовал он, что это они над ним смеются. Подошел Владик к толпе, схватил фотографию, а на ней и вправду он, в совершенно жутком виде: вся его голова усеяна то ли пиявками, то ли червями. Владик закричал от омерзения и проснулся.
Отвратительный сон навел Кружкина на воспоминания о прошлой зиме с голоданиями, дыхательными упражнениями, медитацией, и он почувствовал он зов к чистоте и покою. «Так ведь у меня теперь все условия для натурофильства!» — осенило его. Зигзаг из котельной в отдельную квартиру уКремля приобрел сразу иной смысл: Владик мог, наконец, выполнить замысел, поломанный ученицей.
«Теперь можно предпринять и месячное голодание!» — все больше загорался Кружкин. В тот же день он купил клизму, съездил к матери за Брэгом и предупредил ее и других, чтобы месяц его не искали. Вернувшись домой, Кружкин отключил телефон и дверной звонок.
Первые шесть дней голодания прошли, как и следовало ожидать, трудно. Были и муки голода, и тошнота, и беспричинное раздражение, и головная боль. Он все выдержал, зная из книги, что ощущения изменятся, как только выделятся яды и шлаки, тем и продержался. И правда, на седьмой день голова Владика прояснилась, и его стало лишь слегка поташнивать.
На десятый день он почувствовал эйфорию. Пил все это время только воду, добавляя туда иногда пару капель лимонного сока, — и никакой слабости. Наоборот, хотелось двигаться, действовать, что-то предпринимать.
В одиннадцатый день Владик вышел на прогулку. Шел легко, дышал полной грудью, смотрел на прохожих приветливо, как иностранец. Только подумал: «Ну все точно по Брэгу», как увидел знакомую фигуру, стоявшую в одиночестве на остановке у Каменного моста. Кружкин как раз с него спускался, намереваясь пройтись, как обычно, вдоль Кремлевской стены.
В сердце кольнуло: Нонна Егоровна, та свирепая общественница, что гоняла его всю его юность со двора. Жил у матери — не встречал ее уже несколько лет, а вот у Кремля — на тебе, столкнулись. Была теперь Нонна совсем старушка.
Душевную ясность, которой только что наслаждался Владик, сменила смута. Хотел повернуть обратно на мост, но было поздно: Нонна Егоровна его уже увидела и показывала свое удивление неуклюжим театральным жестом. И такую ненависть почувствовал Владик к общественнице, особенно из-за этого ее глупого заигрывания, что сам испугался. Однако он и представить не мог, каким чудовищным абсурдом обернется эта встреча.
Взволнованная неожиданностью, Нонна Егоровна бросилась к Кружкину и по привычке затараторила. Конечно, она сразу заметила, как осунулся, как потемнел лицом голодавший поэт. Ей почудилось недоброе, и Владик оказался под артиллерийским обстрелом ее вопросов, не признававших личной территории.
Тут пришел автобус. Владик, сдерживавшийся изо всех сил, не выдержал, когда увидел, что Нонна Егоровна готова его пропустить. В вырвавшемся на волю остервенении он стал заталкивать общественницу в тот злополучный автобус. Нонна Егоровна упала, закричала и плюнула Владику в лицо, когда тот попытался было ее поднять.
От этого плевка Владик совершенно потерял рассудок. Он набросился на бедную Нонну Егоровну, стал ее бить. Водитель автобуса, увидев в боковое зеркало эту безобразную сцену, выскочил на помощь старушке. К нему присоединились несколько пассажиров, и возникла бестолковая возня. Дело кончилось тем, что Нонна Егоровна оказалась в больнице, а Владик — в милиции.
Начальник отделения посоветовал Кружкину подвести дело под обострение шизофрении, которую поэту приписали после одичания на дипломатовой даче, — иначе суд и срок за телесные повреждения. Владику ничего не оставалось, как последовать совету милиционера.
- Чувственные тромбы
В этот раз Владик вел себя в дурдоме иначе: с персоналом не спорил, лечению не сопротивлялся, больным не хамил. Таблетки проглотил два раза, в самом начале, когда сестра еще была бдительна. Потом лишь делал вид, что принимает лекарства. Вобщем, вел себя во всех отношениях разумно, и это бросалось в глаза.
Через две недели врач Захар Максимович заявил Владику, что лечение идет очень хорошо и можно было бы через недельку Владика выписать, если бы не уголовная подоплека его помещения в больницу.
— Так что два месяца вам у нас все же пробыть придется, тут ничего не поделаешь», — сообщил поэту на редкость дружелюбный психиатр.
Владик отнесся к его словам мудро и стал терпеливо дожидаться окончания срока.
Невольные наблюдения за сумасшедшими вернули Владика к размышлениям о пугающем соотношении светлого и темного в человеке. Он даже спросил отзывчивого Захара Максимовича, подсчитал ли кто, в какой мере наше поведение направляется разумом.
— Подсчитал, — ответил тот, — всего только на 10 процентов, не больше.
И добавил со значением:
— У нормальных людей.
Названная врачом цифра потрясла Владика. То, что темное преобладает, было давно ясно, но что оно настолько доминирует — такого он и представить себе не мог. Может, балагурил психиатр? Но как задумался Владик о своей собственной жизни, этот вопрос отпал.
И в самом деле, все важные биографические события происходили у Кружкина то по случаю, то по наитию, то по недоразумению. Взять, к примеру, его страсть к музыке. Услышал «Аскетов» в проходном дворе — и потерял голову, даже до воровства дошел. А как стал поэтом? Ведь тоже случайно. Приноровился песни тех же «Аскетов» переиначивать, чтобы подвзвинтиться, да тут еще котлован рядом с домом вырыли, где нашел свое пронзительное соловьиное одиночество, где могла взлетать фейерверком его фантазия, загнанная воспитателями в темные подвалы души. Было бы такое без котлована, в тесноте его юности, огороженной со всех сторон запрещающими и угрожающими красными флажками?
Жизнь Кружкина изменилась лишь один раз по его сознательному выбору — это когда он решил перейти из самиздатовской литературы в официальную. Но а дальше опять подул ветер судьбы, а сам Владик — как клочок бумаги. То занесло его на дипломатову дачу, то в котельную, то на железную дорогу. Решил навсегда уйти из литературы — и что же? Охватил его очередной творческий подъем — и он опять поэт. А ведь он вообще никогда не задавался целью писать стихи. Они складывались сами по себе, когда приходило вдохновение. Откуда оно приходило? Почему оно приходит к одним, а к другим нет? Почему, собственно, к нему оно приходило к нему самому?
— Все очень просто, — устранил неясности его любезный врач. — Фантазии — это излучения чувственных тромбов. Они же, эти тромбы, возникают в детстве. Особенно их много у затюканных детей. Вы часто слышали «не кричи!», «не прыгай!», «не разбей!», «не хватай!», «не кривляйся!», «не вертись!» ? Вот видите! Дети, сплюснутые старшими, рано начинают страдать от застопоривания энергии. Что бы в их душе ни поднималось, наталкивается на препятствия, опускается обратно, на дно, и там остается и скапливается. Вот они и тромбы. Можете вообразить, сколько их образуется в течение жизни, особенно если человек по натуре восприимчивый. Если его ничего не задевает, он своих тромбов не замечает, однако, чуть его душа шевельнется, и они приходят в движение…
— Я не том, я о вдохновении, — прервал заумные речи психиатра Владик, а тот в свою очередь прервал поэта:
— И я о нем. Неужели не понимаете? Изначально были тиски, сплющенная душа, спертые чувства, недостаток жизненного пространства, из-за чего сложилось перекошенное сознание, где мир причудливо преломляется и становится тоже перекошенным. Такой мир данной личности роднее, чем реальный, ей в нем привычнее, а значит, удобнее. И понятно, что она, эта личность, хочет его утвердить, закрепить. Вот вам и искусство…
Сначала Владик ничего не понял в рассуждении Захара Максимовича и даже разозлился на него — не может объяснить по-человечески. Через пару же дней ему вдруг без всякого повода вспомнилось разглагольствование психиатра, и тут до него дошла главная мысль Захара Максимовича: вдохновение приходило не сверху, а снизу, со дна души! Ничего небесного в нем не было.
В спертых, захламленных подвалах его души загорались от случайных искр пожары. Иногда вырывались оттуда чистые языки пламени, и рождались светлые, красивые стихи. Чаще же было дымно, и чем ниже падало пламя, чем удушливее был чад, тем мрачнее становилась его поэзия. Когда пожар потухал, начиналось творческое бесплодие.
Это был очень горький вывод. Все сразу потеряло смысл: литература, творческие муки и радости, известность. Владик вообще теперь не знал, что ему делать в этом обманчивом мире, где высокое и низкое, белое и черное, доброе и злое так схожи, что легко принять одно за другое. Темен человек, темны его побуждения, темна его судьба. И никакое натурофильство не может изменить изначального перевеса подсознания над сознанием, поскольку человек таким асимметричным задуман.
Заметив депрессивные настроения у своего пациента, Захар Максимович посоветовал:
— Сейчас самое главное для вас — обрести душевный покой, а он приходит сам по себе, если не пытаться прыгнуть выше потолка или убежать за горизонт. А главное, конечно, — это перестать метаться от одного к другому, от другого к третьему».
Золотые это были слова. Если бы еще только кто знал, как избавиться от страстей и желаний! Сам Захар Максимович на все случаи жизни мог предложить только свои зверские таблетки. И опять остался Владик один на один с душевной распутицей и безответными вопросами.
- Литвокзал
Когда Кружкина, наконец, выпустили из больницы, он первым делом освободился от лишнего. Сжег рукописи, сломал и выбросил сконструированный им приставной столик. Вынес из комнаты вообще все столы, кроме маленького, журнального, удобного для пользования, если сидеть на полу по-турецки. Потом Владик купил себе занавески и отгородился от Кремля, от Москвы, вообще от внешнего мира.
Дома Владик чувствовал себя лучше, чем где бы ни было. Никуда не хотелось идти, и тем более — никого не хотелось видеть. Лишь за одно дело взялся: продать «Жигуленка». Машина была теперь Владику не нужна, а вот деньги — наоборот, очень нужны. Решил позвонить в первую очередь самому Федору Михайловичу — вдруг тот опять разбогател и хочет выкупить своего бывшего «Жигуленка». И как чувствовал: Федор Михайлович очень обрадовался предложению Кружкина, и Владик, чтобы сразу избавиться от этой заботы, отправился к старому приятелю.
А у Федора Михайловича новость: женился. Когда знакомую дверь открыласедеющая, статная дама с яркой улыбкой, Владик не знал, что и думать. Появившийся у нее за спиной поэт-переводчик представил ее как Лидию Варламовну и все объяснил.
Изменилась квартира Федора Михайловича – теперь она выглядела обжитой, настоящее гнездо. Изменился и он сам: посветлел, похорошел, и даже как бы стал выше ростом. И улыбался теперь так же красиво, как его жена, судя по всему — у нее и научился.
Только сели за стол, что был уже накрыт для чая , как появилась Нинуша, дочь Лидии Варламовны — юная чаровница со свежим румянцем, тем самым, девичьим, известным по старой живописи. И так приветливы и жизнерадостны были все трое, что и сам Владик стал веселым.
Славно было пить вкусный чай из изящных чашек и болтать о чем придется, но так, что всякий случайный предмет разговора искрился. Владик даже забыл, зачем пришел. Посмеялись над этим все вместе и приятно совершили сделку. Владик отдал ключи от машины, взял деньги и чистосердечно признался, что уходить ему не хочется.
Так и застрял Кружкин в тот день у Федора Михайловича допоздна. Был он там не единственным гостем — уютные дома с красавицами-хозяйками в Москве пустыми не бывают.
— У нас многолюдно и бестолково, как на вокзале, — фальшиво ворчал Федор Максимович, провожая Владика до дверей. На лице у бывшего старого холостяка было милое ребяческое тщеславие. — Нинуша так и зовет нашу квартиру: «литвокзал».
После поездки к Федору Михайловичу уединяться Владику больше не хотелось. Его, словно маятник, качнуло из одной стороны в другую — от самокопания к самотеку. Еще никогда не жил Владик так беспечно. Вставал когда придется, слонялся, растрачивал время на ерунду, сорил деньгами.
В чем была регулярность — это в поездках к Федору Михайловичу: пообщаться с ним, его красавицами и гостями, собиравшимися на «литвокзале». Там можно было узнать литературно-артистические скандалы, посмеяться, послушать хорошую музыку, полистать книги, что читала «вся Москва», наконец, угоститься отличным чаем или кофе, прекрасным вином и разными замечательными лакомствами.
Лидия Варламовна была превосходной хозяйкой, готовила прямо-таки талантливо, а главное — умела создать для гостей душевный комфорт, и все, кто посещал «литвокзал», становились под ее влиянием симпатичными, добродушными и общительными людьми. Владик тоже.
Как и многие завсегдатаи «литвокзала», Кружкин шутливо ухаживал за Нинушей. Такое он делал первый раз в жизни. Женщины до сих пор лишь обостряли в нем инстинкт самосохрания. Да и кто были его женщины — мать, Кира, хищные окололитературные невесты. Таких жизнерадостных, развитых, воспитанных девушек, как Нинуша, он еще не встречал. Она была во всем похожа на мать, при этом обладала еще юным, очаровательным озорством.
Несерьезные ухаживания Владика Нинуша с юмором отваживала, да и вообще любила подразнить его по всякому поводу, что ему, впрочем, очень нравилось. Владику это было даже нужно — чтобы задели, подзавели, подзадорили. Сам же он, в свою очередь, любил подразнить Федора Михайловича.
- Прекрасные дамы
Его приятель Федор Михайлович был восторженным жрецом поэзии. Владик же относился теперь к стихам и стихотворцам скептически. Столкновение между ними произошло уже в первую встречу, когда Федор Михайлович поинтересовался, почему Владик перестал печататься.
— Я больше в эти игры не играю, повзрослел, — ответил Кружкин и изложил идеи своего дорогого психиатра о коварстве порывов к творчеству и порочности вдохновения.
Федор Михайлович растерялся, столкнувшись с оценкой искусства в понятиях психической уравновешенности. Он было попытался защитить престиж литературы, ссылаясь на благополучных мэтров: Гете, Тургенева, Паустовского. Однако бесконечный перечень имен, приведенный Владиком в доказательство своей правоты, был подавляющим.
— Довольно! Хватит! — ретировался в конце концов Федор Михайлович.
Дискуссия на том не кончилась. Она возобновлялась почти при каждой следующей встрече, как правило, из-за провокационных выпадов Кружкина.
— Чем тебя так привлекают излияния неврастеников? Зачем тебе этот их культ страданий и страстей? — атаковывал приятеля Владик.
— Это симплицизм, — защищался Федор Михайлович. — Почему ты все сводишь к ущербности? Поэзия — это и выражение радости, наслаждения, восхищения…
— Ну кто же спорит, — не отставал от него Владик, — конечно же, стихи передают все, чем жив человек, только как?! Все там взвинчено, и плохое и хорошее. Поэты усиливают перекосы в себе и других. Получается цепная реакция нездоровых импульсов. Именно нездоровых, ибо здоровье — это равновесие. Странно, что никто это не сознает, ни поэты, ни любители поэзии.
Такие философские поединки с Федором Михайловичем приятно горячили Владика. Его же противник получал от них мало удовольствия. Позиция Федора Михайловича основывались на его душевных движениях, в аргументах он был слабоват и чувствовал себя часто, как фиалка под бульдозером.
А главное, эти дискуссии мало что давали. Спорщики, даже с участием самых разных посетителей «литвокзала», не могли найти ответа на ключевые вопросыБ как например, откуда эта всеобщая романтизация страстей? Почему покой вызывает скуку? Как так получается, что люди, пекущиеся о своем здоровье, воспринимаются другими чуть ли не дураками?
Однажды Нинуша, присутствовавшая при очередном пререкательстве приятелей, ударила рукой по столу и вымолвила с гримасой:
— Опять «Отцы и дети»!
Все рассмеялись. А потом Федор Михайлович сказал Владику:
— Вот что, дорогой, давай раз и навсегда закроем эту тему. Хватит все об одном и том же. Всегда так было и будет: одни хотят стихи, другие — нет. Те, кто не хотят стихов, хотят, значит, чего-то другого…
На том дебаты Владика и Федора Михайловича завершились. Их общение, лишившись философской прослойки, потеряло интерес для обоих. Охладел Владик и к «литвокзалу». С кем ему по-прежнему приятно было видеться, — это с Лидией Варламовной и Нинушей. Встречи с ними давали Владику другой витамин — может быть, даже более важный, чем тот, что он получал от дискуссий с Федором Михайловичом и его друзьями-литераторами.
Днем,после обеда мать и дочь всегда бывали дома, и как правило, без гостей и без Федора Михайловича. Вот тогда Владик и повадился приезжать, четко через день, чтобы не надоедать, и оставался до вечера, пока не собирался неинтересный ему теперь «литвокзал». Нет, ни в Лидию Варламовну, ни в Нинушу влюблен он не был. Если он случайно касался той или другой, ничто в нем не вспыхивало, и не было того, чтобы он думал о ком-то из них, позабыв все на свете. Дело было в другом.
Лидия Варламовна и Нинуша стали для Владика его «прекрасными дамами». Он их в буквальном смысле обожал, и это было для него совершенно новым чувством. Все ему в них нравилось, даже то, что одна была намного младше его, другая — намного старше. Общаясь с ними, он преображался: его душа теплела, ум веселел, добрые чувства отодвигали недобрые. Вот в этом-то и была суть: он был влюблен не в хозяек, а в самого себя — такого, каким он становился благодаря им.
Увы, так шатко все на свете, и особенно непрочно то, что приподнято над землей. Скоро, совершенно неожиданно, рухнула возвышенная дружба Владика с Лидий Варламовной и Нинушей.
- Отставка
Однажды Кружкин пришел к ним и обнаружил, к своему удивлению, нового гостя: юного, лиричного Глеба. Нинуша смотрела на молодого человека восторженно, Лидия Варламовна — как-то особенно внимательно. Владик почувствовал, что этот Глеб для хозяек желаннее, чем он. Он покинул в тот день своих «прекрасных дам» раньше, чем обычно. Такого еще никогда не было, а они словно бы и не заметили преждевременный Владикин уход — настолько были поглощены Глебом.
Кружкину показалось, что он получил отставку у Лидии Варламовны и Нинуши. Ощущение своей ненужности осталось у него и после того, как он расстался с ними: таким же лишним он чувствовал себя на улице, в метро и вообще в окружающем мире.
«Обычное дело, — пытался навести порядок в чувствах Владик, — девица на выданье, и что может быть важнее женихов для нее и ее матери». Сам-то он был шуточным ухажером и, конечно, должен посторониться, если объявился настоящий. И хотя это было логично, душа у Владика все равно ныла.
Что его особенно задевало — это легкость, с какой дочь и мать его разжаловали. Был Владик для них своим человеком, чуть ли не членом семьи, но вот появился Глеб — и с ним обращаются как с посторонним.
Тем не менее, не поддался Владик обиде. Через день, как ни в чем не бывало, он поехал к «прекрасным дамам» в свое обычное время, но опять неожиданность: никого дома. Вернулся Владик к себе оскорбленный, о Лидии Варламовне с Нинушей и вспоминать больше не хотел.
Три дня потребовалось Кружкину, чтобы оправиться от пережитого потрясения. Когда в душе у него, наконец, улеглось, обнаружилась пустота. Напрасно он надеялся, что вернется покой. Дома не сиделось. Душа Владика рвалась на простор, требовала движения, игры, схватки, воли. Она не хотела покоя!
«Не поддаваться порывам!» — попытался удержать себя Владик. В ответ на это разумное самообуздание в душе поднялась злая волна. Была она не свинцовая, что расплющивает, а мягкая, нашатырная. Застучали слова-молоточки, выбился ритм, сбились строчки, и вот уже готова строфа, звонкая и гневная, как пощечина. За ней сразу отчеканилась следующая.
Владика прорвало. Взял он ручку, взял блокнот и допоздна строчил стихи, обильно извергавшиеся из него, как лава из вулкана. За пять часов четырнадцать стихотворений!
На следующий день, когда перечитал написанное, стало ему стыдно. Эти страстные, взрывные стихи компрометировали его, проповедника равновесия и покоя. Как жить с такими противоречиями? Владик почувствовал, что совсем запутался.
Тут он вспомнил, как Глеб рассказывал об эзотерике и врачевателе Семене Ивановиче, к которому теперь ездила вся Москва. «А поеду-ка и я к нему»,- мелькнула у Владика мысль, и он ухватился за нее, как утопающий за соломинку.
- Эзотерик
Семен Иванович проживал на Пироговке, в огромной квартире вдовы-генеральши Марзухиной, которую он, по слухам, излечил от рака груди. Говорили, что Марзухина узнала об этом самородке-врачевателе, еще когда он проживал в своем родном Рыбинске, и, приехав к нему туда, сказала: «Если спасете меня, буду всю жизнь служить вам, как раба!».
Семен Иванович и вправду ее спас, а потом потребовал, чтобы Марзухина сдержала свое слово. Вроде бы даже пригрозил ей восстановить рак, если она передумает. И пришлось генеральше брать к себе в Москву Семена Ивановича, как он того пожелал, и работать на него в качестве импресарио и ассистентки. Впрочем, привыкнув к своим новым обязанностям, Марзухина вошла во вкус и добилась, что о ее эзотерике узнала вся столица.
Глаза у Семена Ивановича были маленькие, а взгляд – цепким и, прямо скажем, неприятным.
— Ну, что молчишь? Говори! — подтолкнул он к разговору задумавшегося Владика.
И Кружкин рассказал ему вкратце свою жизнь, особенно ударяя на мучения от того, что темное в человеке сильнее светлого.
— Ну, это как посмотреть, — заметил с надменной ухмылкой рыбинский самородок. – Вот тебе одна мудрая история из одного эзотерического учения. В доме кончилась вода, и отец послал старшего сына к роднику. Тот принес полный кувшин, но, входя в дом, споткнулся о порог и выпустил его из рук. Кувшин был жестяной и не разбился, но больше половины воды вылилось. Старший сын расстроился и сказал: «Все впустую, воды осталось лишь на донышке!» Тогда отец послал за водой младшего сына. Тот тоже, входя в дом, споткнулся о порог, и больше половины воды вытекло из кувшина. «Гляди, отец! — сказал младший сын, протягивая отцу кувшин. – Нам повезло. В кувшине осталось еще много воды!»
«Как же наивны эзотерические учения», — думал Владик, возвращаясь от Семена Ивановича домой. Как жить — он не знал по-прежнему. Когда он это спросил у рыбинского самородка, тот сказал:
— Глупый вопрос.
— Почему же глупый? — заспорил было Владик. Но эзотерик вдруг заторопился и, не церемонясь, выпроводил Кружкина из своей комнаты.
Провожая Владика до дверей, Марзухина сказала:
— Семен Иванович очень парадоксальный. Это у него метод такой — через парадоксы подводить людей к высшим истинам. Какое у вас впечатление?
— Не знаю, — честно ответил Кружкин.
Владик шел потерянно по грязной летней Пироговке к метро «Спортивная». Вспомнил, как в «чистое время» чихал на улицах. Тогда его очищенный нос не выдерживал едких выхлопных газов. В его сознании снова всплыли слова Семена Ивановича: «глупый вопрос». Разве это ответ? И, прогнав ульяновского самородка из головы, он вернулся к размышлениям о равновесии, которые его всегда успокаивали. Равновесие — вот основа основ, напомнил он себе. Не надо поддаваться порывам.
— И к черту эти самые вдохновения! – воскликнул он, не обращая внимания на прохожих. — Сколько раз они уже выбивали меня из колеи! «Небесные», твою мать! Знаем мы это небо!..
И тут Владик услышал громовой голос:
— Хватит хулить вдохновение, Кружкин! Какая тебе разница, снизу оно приходит или сверху?! Я везде!
Оглушенный, стоял Владик посреди улицы, и было у него такое выражение лица, что катившийся ему навстречу на роликовых коньках паренек остановился и снял наушники своего вокмэна.
— Эй, мужик, ты в порядке? — спросил он своим подростковым, ломающимся голосом. Кружкин очнулся.
— Ты что-нибудь слышал? — спросил он в свою очередь паренька.
— Где? — не понял тот.
— Там, — произнес Владик сдавленным голосом и указал глазами наверх.
— Гром, что ли? — догадался мальчишка. — Ну слышал. Еще бы, так грохнуло по всей окружности, что пуговицы чуть не слетели.
— Ах, вот оно что… — только и успел пробормотать Владик, как сверху блеснуло и раздался новый небесный залп.
— Гроза начинается, — скривился парень. — Хреново. Терпеть не могу грозу. Я ее боюсь.
И при этих словах он улыбнулся так по-человечески, что у возбужденного всеми этими невозможными событиями Владика проступили слезы.
— Ты знаешь, — поделился Кружкин с откровенным конькобежцем,- я только что слышал бога.
Детское личико его собеседника постарело от некрасивой гримасы. Он сорвался с места и покатил на своих коньках дальше.
— Господи, скажи еще что-нибудь, — умоляюще шептал Владик висевшим над головой тучам.
Но нет, следующие раскаты грома были обычные, нечленораздельные.
— Так это и все?! — не верил растревоженный Кружкин.- Господи, ты же не сказал главного! — звал и звал он всевышнего, не оставляя надежды, что за высоким вразумлением последует указание, что следует делать дальше.
Прохожие оглядывались на Владика, но он их нисколько не стеснялся. Наконец, какая-то старушка — кто же еще? — дернула Владика за рукав и надоумила:
— Разве так разговаривают с господом, да еще на улице? Шел бы ты, милый, в церкву. Там-то господь тебя скорее услышит.
И хотя старушкины слова противоречили полученному Владиком высшему откровению, отозвались они в его душе одобрительно, и он отправился в церковь, благо до Новодевичьего монастыря было рукой подать.
- Хорошая дорога
В церкви шла вечерняя служба, и народу было много. Тихие и скромные стояли здесь старушки в своих дешевых платочках, все вперемешку — склочницы, страдалицы, хлопотуньи, сказочницы, общественницы. Вместе с ними — кое-кто из среднего поколения. Бросались в глаза русые мужские шевелюры и красивые, затейливо завязанные косынки и шали неохристианок.
Богомольцы никогда не вызывали у Владика хорошего чувства. После всего, что он натерпелся от бабусь со своего двора, не верил он, что молитвы и проповеди могут по-настоящему смягчить сердца. Да и многие ли понимают батюшку, говорящего и поющего на несовременном языке?
Кружкин остался у дверей, не зная что делать — подойти к алтарю и взывать там ко всемогущему или выбрать какую-то икону, поставить свечку и молиться. А как, кстати, он будет обращаться к господу: по-православному или по-своему? Лидия Варламовна, которая с недавних пор ходила в церковь, рассказывала, как неожиданно для самой себя начала в первый же раз молиться «как положено», хотя ее никто никогда этому не учил – произошло вот такое, по ее словам, спонтанное приобщение к вере.
Владик почувствовал, что ничего хорошего у него здесь не получится. Чуждая обстановка, ненавистная ему с детства коллективность действий, да и сам собравшийся здесь коллектив действовали на него угнетающе. Кружкину стало душно, жарко и тяжко, и он в отчаянии пошел прочь.
Спускаясь по ступенькам вниз, Владик почувствовал себя смертельно усталым. Вместо того чтобы направиться к выходу из Новодевичьего монастыря, он побрел по дорожке вдоль церковного здания к его алтарной части и опустился там на землю. В одиночестве и тишине его душа, наконец, разжалась.
— Господи, зачем так много всего сидит во мне и раздирает меня на части?! — воскликнул Виталик и стал перечислять, что в нем живет. Назвал боль, хаос, страсти, бессердечие, манию величия, зажатость, ярость, сентиментальность, презрение к сентиментальности, тщеславие, обиды, шутовство, страхи, авантюризм, слабость к красивым женщинам, женоненавистничество, мещанство, цинизм, нетерпение, терпение, глупость, аскетизм, бешенство, мечтательность, эгоизм, бесхребетность, , нетерпимость, лень. Он мог бы еще много чего добавить к перечисленному, но не успел.
— А ты соедини в себе все это, чтобы не раздирало, — прервал его мягкий голос, раздавшийся у него где-то в затылке. Узнал Владик этот голос, хотя он больше не гремел, как час назад.
— Да ведь несоединимо это! — возроптал Кружкин. — Это …
— Соединимо , — не стал слушать его господь – а что это именно он, Владик не сомневался — Все соединимо. Оглянись вокруг, присмотрись, как я все соединяю. Вот и ты так. На то я тебя и выбрал, одарил, окрылил. В яму упадешь — вытаскиваю. Возгордишься — жду.
— Да смогу ли я ?! — испугался Кружкин своей избранности. — Ты же видишь, я всю жизнь путаюсь, кидаюсь туда-сюда, сбиваюсь с дороги…
— Никуда ты не сбиваешься, — опять оборвал жалобу Владика тихий голос. — Это дорога такая. Хорошая дорога. Думаешь, прямая легче? Идешь-то ведь в гору.
Можно только гадать, что было дальше. О случившемся в Новодевичьем монастыре Владик зачем-то в тот же день рассказал по телефону Федору Михайловичу. После этого его никто в Москве не видел. Ну, а поскольку Владика никто и не искал, его дальнейшая жизнь так и осталась неизвестной.


